Благородные-5.13.
БЛАГОРОДНЫЕ
Заметки об истории русских девичьих институтов и судьбах воспитанниц.
«ПАРИЖСКАЯ ТЕТРАДЬ» получена из Франции вместе с другими историческими артефактами русского рассеяния, возникшего в мире после революции 1917 года. Она собиралась на протяжении многих лет одним русским эмигрантом и представляет собой сборник вырезок из русскоязычных газет, издаваемых во Франции. Они посвящены осмыслению остросовременной для нынешней России темы: как стало возможным свержение монархии и революция? Также в статьях речь идёт о судьбах Царской Семьи, других членов Династии Романовых, об исторических принципах российской государственности. Газетные вырезки читались с превеликим вниманием: они испещрены подчеркиванием красным и синим карандашами. В том, что прославление святых Царских мучеников, в конце концов, состоялось всей полнотой Русской Православной Церкви, есть вклад авторов статей из ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ и её составителя. Благодарю их и помню.
Монархический Париж является неотъемлемой частью Русского мира. Он тесно связан с нашей родиной и питается её живительными силами, выражаемыми понятием Святая Русь. Ныне Россию и Францию, помимо прочего, объединяет молитва Царственным страстотерпцам. Поэтому у франко-российского союза есть будущее.
Публикации первого тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parigskaya-tetrad/.
Публикации второго тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ-2: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parizhskaya-tetrad-2/.
Публикации третьего тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ-3: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parizhskaya-tetrad-3/.
Благородные — введение. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-vvedenie/
Благородные — Глава 1. Часть 1. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-1-1/.
Благородные — Глава 1. Часть 2. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-1-2/
Благородные — Глава 2. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-2/
Благородные — Глава 3. Часть 1. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-3-1/
Благородные — Глава 3. Часть 2. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-3-2/
Благородные — Глава 4. Часть 1. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-4-1/
Благородные — Глава 4. Часть 2. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-4-2/
Благородные — Глава 4. Часть 3. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-4-3/
Благородные — Глава 4. Часть 4. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-4-4/
Благородные — Глава 5. Часть 1. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-1/
Благородные — Глава 5. Часть 2. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-2/
Благородные — Глава 5. Часть 3. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-3/
Благородные — Глава 5. Часть 4. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-4/
Благородные — Глава 5. Часть 5. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-5/
Благородные — Глава 5. Часть 6. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-6/
Благородные — Глава 5. Часть 7. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-7/
Благородные — Глава 5. Часть 8. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-8/
Благородные — Глава 5. Часть 9. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-9/
Благородные — Глава 5. Часть 10. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-10/
Благородные — Глава 5. Часть 11. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-11/
Благородные — Глава 5. Часть 12. http://archive-khvalin.ru/blagorodnye-5-12/
+
Глава 5.
ЖУРНАЛ «МЫ – ДЛЯ СЕБЯ»… И ДРУГИХ
Часть 13.
+
1988 год
Рождественский выпуск
КИКИНДСКИЕ
Растет чебрец в расщелинах кремнистых
И остро пахнет полднем и жарой.
И прошлое, разорванным монистом,
Как бусы, светится сегодня надо мной.
Этот отрывок из стихотворения Екатерины Таубер невольно всплыл в памяти, когда я сел за машинку, чтобы написать о милых кикиндских институтках.
Я, бывший кадет Крымского Корпуса. Bсе кадетские годы прошли вблизи Донского Института. Этих барышень мы видели почти ежедневно при их прогулках по аллее, слышали на приёмах в институте, осязали и обоняли на редких танцевальных вечерах, именовавшихся тогда балами. Кикиндские же и харьковские институтки были для нас отдалённой мечтой, о них мы только слышали.
Наш корпус роднит с Кикиндским Институтом одинаково горестная судьба: нас, как и ваш институт, первыми расформировали. Я никогда не думал, что институтки переживали закрытие своего родного гнезда столь же глубоко, как и мы, кадеты. Ваш великолепный журнал меня в этом убедил. Последний год я провёл уже в другом корпусе, как и многие из вас, но до конца своих дней я буду чувствовать себя крымцем, как и вы – кикиндскими.
Вам всё-таки было легче. При закрытии института вас перевели в два пока что оставшихся, что было горько, но не оскорбительно. Мы же остались в своих помещениях, так любовно нами же оборудованных, но нам пришлось стать пасынками в своем доме, переменить форму, начальство, обычаи, распорядок. Эта рана не зарубцевалась в наших душах и поныне.
Что связывало меня с Кикиндским Институтом? Прежде всего то, что моя старшая сестра Ирина училась в нём вплоть до своей роковой болезни. Малышом, для меня из всех институтов существовала только Кикинда, ибо сестра не уставала рассказывать о ней в течение всех каникул. Донской же институт, столь близкий к моему корпусу, меня совсем не интересовал. Ирина привозила домой ваш журнал «Чёрные пелеринки», захлебывалась читала доморощенные стихи «Кикиндиады», из которых и сейчас вдруг выплывают в памяти строчки вроде: «…господа, вода воняет!.. Душка, врёшь, как это можно, это ж мыться невозможно!» или «Вдруг Мариюшкина шагнула, что-то на ухо шепнула…». То, что читаю в вашем журнале, мне близко и знакомо, как отблеск далёкого детства.
Потом сестра заболела. Теперь ясно, что это был менингит, но тогда врачи называли болезнь накоплением жидкости в мозговой полости. Сестра медленно слепла. Это были очень тяжёлые месяцы. Поездки в Белград на осмотры, трепанация черепа, чтобы выпустить давившую на зрительные нервы воду, разговоры о необходимости ехать в Вену, на что у отца не было средств. А главное – нервное состояние родителей, отражавшееся на бедной сестре. Я бывал дома только на каникулах, но они мне были не в радость.
Сестра день ото дня слабела и как бы уходила из жизни. Наконец, в корпус пришла телеграмма о её смерти, но воспитатель сказал, что меня вызывают домой, т.к. Ирину будут оперировать. Ехал я почти уверенный в ее кончине, но всё же, как и в прошлые приезды, купил по плиточке шоколада для двух сестёр. Застал я Ирину на столе под образами. Хоронили Иру на следующий день. Полубезумная мать, плачущий отец, вся новосадская русская колония, проводившая пятнадцатилетнюю девочку до кладбища. Тяжело вспомнить и сейчас, хотя с того времени минуло больше шестидесяти лет.
Как ни странно, но могила сестры сохранилась и в первое же своё и посещение Нового Сада в шестидесятых годах, я ее разыскал. Деревянный крест сгнил, но бетонный бордюр остался. Больше же всего меня поразило то, что на могиле всё ещё растут ландыши, посаженные матерью. Мне удалось поставить маленькую бетонную доску, на которой выгравирована та же надпись что была на кресте: Ирина Бодиско. 1910-1925. Может быть, Лиза Мариюшкина-Буссова на неё изредка заходит, посещая могилу матери и мужа. Сколько помню, они с сестрой были одноклассницами. С кончиной сестры оборвалась моя прямая связь с Кикиндским Институтом.
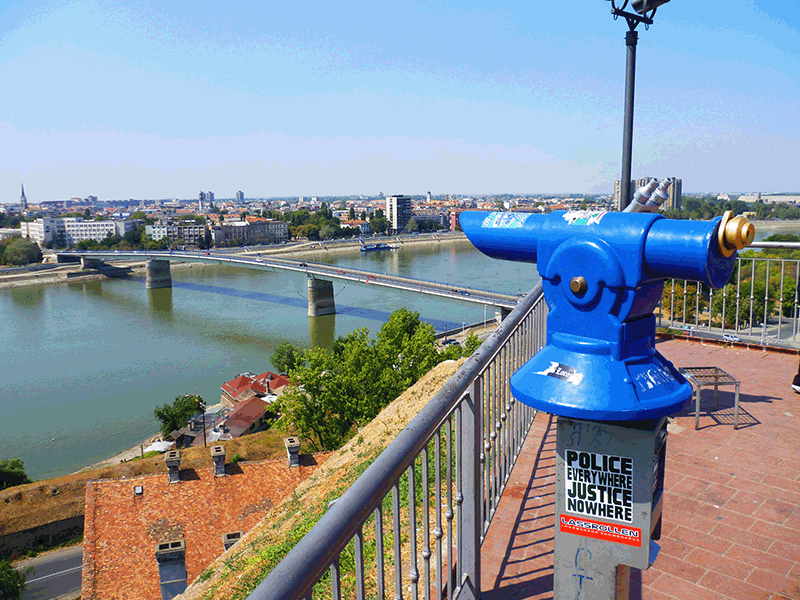
Русская колония в Новом Саду была очень большая. Была даже русская гимназия, в которой все мы учились в младших классах, до поступления в корпуса и институты. Потому все мы, сверстники, знали друг друга хорошо.
На другой стороне Дуная в прикрепостном поселке Петроварадин жила большая, дружная и радушная семья Субботиных, состоявшая из отца, матери, старшей дочери Маруси, уже студентки, сына-кадета Миши и младшей дочери Оли – кикиндской институтки. Поселок переходил в село, а дом, длинный флигель, где жили Субботины, местные аборигены называли «киндер фабрик» безо всякой задней мысли, а только потому, что жило в нём очень много детей.
Как то само собой получилось, что дом Субботиных стал средоточием молодёжи. Там и возродилась моя связь с кикиндскими. В семье неизменно праздновались Олины именины, на которые все мы приглашались. До сих пор храню фотографию, на которой большинство барышень – кикиндские: Оля Субботина, Вера Кугатова, Люся Широбокова, Лиза Апухтина, Ира Фигуровская, Таня Хитрина, смотревшая на нас, как старшая, с долей презрения. Не знаю почему, но другие старшие кикиндские, как Лиза Мариюшкина, Люля Афанасьева или Ирина Сосионкова, там не бывали.
Помню игры: «Третий лишний», «Щётку», «Фанты», «Флирт цветов», даже танцы. Не могу вспомнить, под какую музыку мы танцевали. Граммофоны тогда были недоступны, радио не было, и мне кажется, что все «па дэ катры», «па-д-еспани» и краковяки отплясывали мы под собственное пение. Главным был романтический дух лёгкой влюбленности, когда все барышни казались красивыми, милыми, очаровательными. В те дни главным магнитом была новосадская гимназистка Галя Лобач-Жученко, брюнетка с большими серыми, глазами и длинными косами. Меня же больше всего влекло к Верочке Кугатовой.
Прав был Дон Аминадо:
Забыть ли счастливейших дней ореол,
Когда мы склоняли в угаре
Единственный в мире латинский глагол —
Amare, amare, amare. (с лат. – любить).
Позднее эти встречи как-то сами собой кончились. Начался разъезд из Нового Сада, у всех, по-видимому, возникли свои интересы.
Первая моя прямая встреча с Кикиндским Институтом в большом составе пришлась на 1928 год. Кикинда, Новый Бечей и Белая Церковь расположены в Банате[1] и в те времена принадлежали к банатскому сокольскому округу — жупе. В том памятном году окружной слёт состоялся в Белой Церкви, и все три института, как и наш корпус, приняли в нём участие. Слёт был созван в самом начале июня, чтобы на нём могли присутствовать ученики средних учебных заведений до их разъезда на летние каникулы. А 3-го июня был день нашего корпусного праздника. Само собой понятно, сколько радости мы пережили, как светло и торжественно прошли эти дни.
Слёт начался с «поворки» — общего шествия по городу. Донские и харьковские шли в своих обычных формах, не особенно стараясь идти в ногу и держать равнение. Всем было ясно, что они не в своей тарелке. Кикиндские же заставили открыть рот от удивления и изумления. Форма — цветов русского флага – белые шапочки, синие блузы, красные юбки (все юбки одной длины и одинаковые — черные чулки и обувь). Выправка, подтянутость, равнение, строевой шаг, не хуже нас – кадет. И при всём этом отнюдь не утерянная женственность. Командовал ими по-сербски какой-то молодой человек в сокольской форме[2], незамедлительно снискавший нашу ревнивую недоброжелательность. Кикиндским публика аплодировала с восторгом.
Потом были состязания, в которых институтки участия не принимали, а кадеты отличались. Запомнился бег на 100 метров, при котором у бедного Кирилла Жукевича-Стоша лопнули трусики, и ему пришлось мгновенно решить, продолжать ли бег или постараться скрыть последствия несчастья? Прибежал он первым, а институтки, даже видевшие происшествие, сделали вид, что ничего не заметили.
Гвоздём выступления перед публикой была наша знаменитая «трехэтажная пирамида», где на две пары брусьев устанавливались третьи, а на них ещё маленькие, на которых Володя Фишер жал стойку на руках Юры Тараканова. Вокруг же остальные гимнасты устраивали орнамент из своих тел, во всевозможных позициях. Здесь уже институтки, включая кикиндских, аплодировали до боли в ладонях и даже кричали «браво».
Вечером была «академия», как назывались гимнастические упражнения на сцене, в зале. Кадеты блеснули выступлением на брусьях, донские с шарфами, харьковские с шариками на длинных нитях, а, может быть, наоборот. Это было красиво, чётко отработано, но в этом, помимо гимнастики, был сильный отзвук балета. Кикинда же затмила всех. В тех же трёхцветных формах изящные девушки проделали упражнения с мячами, да так, что трудно было уследить от кого и кому перелетает мяч – кто его бросает и кто ловит. Казалось, что мячи всё время в воздухе, что они должны столкнуться, что кто-то их должен выронить. Но упражнение прошло без сучка и задоринки, к радости, думается, участниц, к восторгу публики.
На следующий день был наш корпусной праздник, который справляю и поныне рюмкой-двумя водки, при поддержке жены. Вместо звука трубы, поднял нас из постелей весь оркестр. Была служба в церкви, а потом парад на плацу перед зданием корпуса. Как всегда, три роты были выстроены «покоем», а завершали квадрат все институтки, оттеснив прочую публику. Знамя, унаследованное нами от Сумского корпуса, выносил последний кадет-сумец, облачённый в старый мундир, с белыми погонами на плечах. В этом году знаменщик, Петя Генин, окончил корпус. Как жар на солнце горели трубы оркестра. Директор, генерал М.Н. Промтов[3], произнёс приветственное слово, а затем корпус прошёл перед ним, институтками и публикой церемониальным маршем, сначала повзводно, т.е. по десять-двадцать человек в шеренге, а затем и поротно, где равнение держали уже до сорока кадет, печатавших шаг. Понятно, что самые громкие аплодисменты заслужила третья рота, в которой малышам было труднее всего показать свою выправку и строевую подготовку.
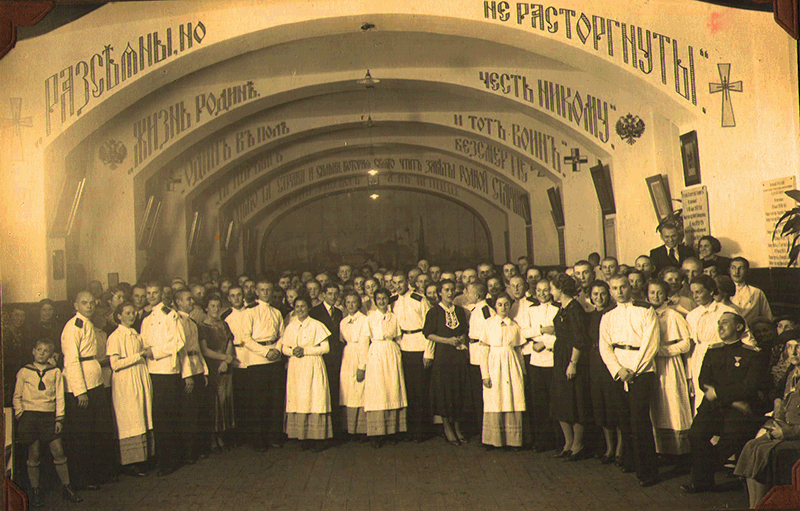
А вечером был бал. В парадно украшенный зал представительницы трёх институтов входили по очереди, поворачивались лицом к директору и начальницам и все одновременно делали им глубокий реверанс. Это было очень красиво. Затем оркестр грянул полонез, директор пригласил начальницу Донского Института Н.В. Духонину, и с ней возглавил шествие. За ними потянулись пары кадет и институток. Я, ещё не решившийся кого-нибудь пригласить, смотрел и восторгался. Белые пелеринки и фартуки институток, белые рубашки и алые погоны кадет, стройные ряды, обходившие зал под звуки Чайковского с одновременным легким приседанием, – красота.
Полонез – это традиция, а когда раздались первые звуки вальса «Душа полка», по залу закружились пары, включая и меня, решившегося, поборов робость, пригласить прелестную Лелю Булатову, чьё очаровательное личико я заприметил ещё в последних рядах кикиндского строя. Потом танцевать с ней мне уже не пришлось. Лелю разглядели старшие, которые и оттирали меня, шестиклассника, когда я пытался к ней пробиться.
По окончании бала был ужин – закуска, где мы сидели вместе с институтками, умудрившись даже пронести немного вина, которое под шумок распивали. Возвращались институтки парами, а мы провожали их, идя по сторонам, причём каждый старался пристроиться поближе к той, что успела пленить его сердце.
Этот корпусной праздник оказался кульминацией в жизни нашего корпуса. На следующий год всё было много скромнее, а бала вообще не устраивали, т.к. корпус нёс траур по скончавшейся Императрице Марии Фёодоровне. В последний же год моего пребывания в корпусе нам пришлось сменить свои алые погоны на малиновые, а в новом корпусе всё было иначе. Праздник приходился зимой, парада на плацу не было, а заменяло его построение в коридоре. Был бал, но воспоминаний о нём у меня не сохранилось.
Последний раз я видел Кикиндский Институт в 1930 году, когда, окончив корпус, проезжал через Белград, где происходил всеславянский сокольский слет. Стоя в толпе, я смотрел на «поворку» и вдруг услышал громкие аплодисменты. Приближался кикиндский строй, предшествуемый русским флагом.
Те же трёхцветные формы, тот же чёткий шаг, те же приветливые лица. А на правом фланге высокая, стройная, худощавая девушка, с чуть восточным, типом красивого лица – Ирина Новосильцева, как узнал я позже. Публика неистово хлопала в ладони, кто-то кричал «Живели рускине» («Да здравствуют русские!» — с серб.), а я, пробиваясь через толпу, прошёл за строем два-три квартала, с душой полной восхищения и гордости русскими девушками.
Когда до меня дошла весть о закрытии Кикиндского Института, я подумал, что моя тонкая связь с Кикиндой окончательно оборвалась. И, слава Богу, ошибся.
Живя студентом в Земуне, встретил я юную донскую институтку, сразу произведшую на меня большое впечатление. Пока длились каникулы, я за ней скромно ухаживал, а когда она уехала в институт, писал ей письма на адрес какой-то знакомой дамы. По окончанию ею института встречи продолжались, взаимное влечение росло, а когда немцы напали на Польшу, начав мировую войну, мы решили, что ждать ещё год, до получения мною диплома, рискованно, и обвенчались.
Началась общая жизнь, прекратились встречи, когда нужно было говорить в первую очередь о чувствах, а затем о планах на будущее, нашлось время для воспоминаний. И тогда выяснилось, что нас, помимо всего прочего, роднит неизменная любовь к наши учебным заведениям, меня к Крымскому Корпусу, её, как ни странно, к Кикиндскому Институту, где пробыла она всего четыре года. В Донском же она училась уже не девочкой, а девушкой, была отлично принята, чувствовала себя не только дома, но и «persona grata» (желательная персона – с лат.), любима и уважаема подругами и персоналом, как писали о нас воспитатели наши родителям, солировала в танцевальных выступлениях, вероятно, кокетничала с кадетами. И при всём этом Кикинда, детские годы, проведённые в ней, её быт и порядки, внимание старших к младшим, и весь дух в ней царивший, в значительной степени затмевают для жены воспоминания о Донском.
Теперь всё в прошлом. Ушла молодость, ушли зрелые годы.
Ну, а старость, — что с неё спросишь?
Это наше тяжкое бремя.
Дух наш тоже тронула проседь,
И его не щадило время.
Так пишет неизвестная мне Елена Клюева. Мы с женой с ней не согласны. Пусть жизнь прошла, пусть нет надежд на будущее, но «поседевший» дух от этого не страдает, ибо ещё Микеланджело Буонаротти сказал: «Бог даровал замену надеждам, и зовут её – воспоминания».
Владимир Бодиско (Муж Натуси Ставрович)
Венесуэла
Примечание:
[1] БАНАТ (Banat), историческая область в юго-восточной Европе, между Трансильванскими Альпами на востоке, реками Тиса на западе, Муреш на севере, Дунай на юге. В 10-11 вв. Банат — феодальное владение. С 12 в. под властью Венгерского королевства, к 16 в. завоёван Османской империей, в 1718 перешёл к Габсбургам. По Трианонскому мирному договору 1920 разделён между Румынией и Югославией. Западная часть Баната входит в состав Сербии, восточная – в состав Румынии — ред.
[2] Митя Николич – прим. авт.
[3] Промтов Михаил Николаевич — (12 июня 1857 г., Полтава — 1950 или 1951 г., Белград, Югославия) — генерал-лейтенант, артиллерист, один из долгожителей Русской Императорской армии, участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., Русско-японской войны, военачальник Первой мировой войны и участник Белого движения на Юге России. Эмигрант.
