Глава II
КРУШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ
Книга Мириэль Бьюкенен – дочери английского посла[1], «свидетельницы всех событий, подготовивших русскую революцию, а также и самой революции».
«ПАРИЖСКАЯ ТЕТРАДЬ» получена из Франции вместе с другими историческими артефактами русского рассеяния, возникшего в мире после революции 1917 года. Она собиралась на протяжении многих лет одним русским эмигрантом и представляет собой сборник вырезок из русскоязычных газет, издаваемых во Франции. Они посвящены осмыслению остросовременной для нынешней России темы: как стало возможным свержение монархии и революция? Также в статьях речь идёт о судьбах Царской Семьи, других членов Династии Романовых, об исторических принципах российской государственности. Газетные вырезки читались с превеликим вниманием: они испещрены подчеркиванием красным и синим карандашами. В том, что прославление святых Царских мучеников в конце концов состоялось всей полнотой Русской Православной Церкви, есть вклад авторов статей из ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ и её составителя. Благодарю их и помню.
Монархический Париж является неотъемлемой частью Русского мира. Он тесно связан с нашей родиной и питается её живительными силами, выражаемыми понятием Святая Русь. Ныне Россию и Францию, помимо прочего, объединяет молитва Царственным страстотерпцам. Поэтому у франко-российского союза есть будущее.
Публикации первого тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parigskaya-tetrad/.
Публикации второго тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ-2: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parizhskaya-tetrad-2/.
ПАРИЖСКАЯ ТЕТРАДЬ-3: http://archive-khvalin.ru/o-tainstvennom/; http://archive-khvalin.ru/vojna-armiya-i-strana/; http://archive-khvalin.ru/pamyati-imperatora-nikolaya-ii/; http://archive-khvalin.ru/llojd-dzhordzh/.
КРУШЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 1. От автора. http://archive-khvalin.ru/krushenie-ot-avtora/.
ГЛАВА I. http://archive-khvalin.ru/glava-i/
+
ГЛАВА II.
Петербургский свет.
Мы приехали в Россию осенью 1910 г., так что были ещё в полутрауре по королю Эдуарду VII[2] и не могли давать балов в посольстве. Но всё же каждый посланник, как только он представлял Царю свои верительные грамоты, должен был дать большой, официальный приём, на который являлось всё петербургское общество, чтобы быть официально представленным. Приём этот был всецело организован заведующим церемониальной частью министерства императорского двора, и хотя приём этот происходил в нашем доме, мы не принимали в его организации никакого участия, будучи марионетками в руках церемониймейстера Евреинова.
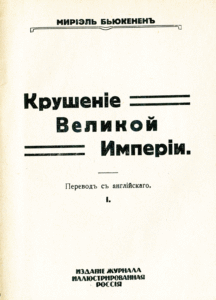 Суетливый, полный собственного достоинства и официальности, Евреинов составлял списки приглашённых, давал нам указания, как стоять, где стоять, где должен будет находиться буфет, что именно следует приготовить и какое количество шампанского, крюшона и лимонада. Он даже сказал, как мы должны быть одеты. Чёрные или тёмные цвета не были приняты при дворе и на официальных приёмах, и, так как мы были в полутрауре, мы должны были выбирать между бледно-серым и лиловым. Мы не должны были сказать более нескольких слов каждому. С некоторыми из гостей мы должны были здороваться за руку, но были некоторые, которые должны были быть приглашены из-за своего политического положения, но которые, однако, не были приняты в придворных кругах и этим лицам мы должны были просто кланяться. Брови Евреинова поднялись в виде протеста кверху, когда моя мать заявила, что будет всем тем, которые находятся в её доме, жать руку, каково бы ни было их социальное положение. И, когда наступил вечер, Евреинов был страшно взволнован, как бы мы не забыли его предписания, или еще хуже, не сделали что-нибудь противного его указаниям. С большой старательностью он сгруппировал моих мать и отца в центре первой приёмной, велел мне встать немного в стороне около двери, ведущей во вторую гостиную, и распределил чинов посольства позади нас в точном порядке их положения и ранга.
Суетливый, полный собственного достоинства и официальности, Евреинов составлял списки приглашённых, давал нам указания, как стоять, где стоять, где должен будет находиться буфет, что именно следует приготовить и какое количество шампанского, крюшона и лимонада. Он даже сказал, как мы должны быть одеты. Чёрные или тёмные цвета не были приняты при дворе и на официальных приёмах, и, так как мы были в полутрауре, мы должны были выбирать между бледно-серым и лиловым. Мы не должны были сказать более нескольких слов каждому. С некоторыми из гостей мы должны были здороваться за руку, но были некоторые, которые должны были быть приглашены из-за своего политического положения, но которые, однако, не были приняты в придворных кругах и этим лицам мы должны были просто кланяться. Брови Евреинова поднялись в виде протеста кверху, когда моя мать заявила, что будет всем тем, которые находятся в её доме, жать руку, каково бы ни было их социальное положение. И, когда наступил вечер, Евреинов был страшно взволнован, как бы мы не забыли его предписания, или еще хуже, не сделали что-нибудь противного его указаниям. С большой старательностью он сгруппировал моих мать и отца в центре первой приёмной, велел мне встать немного в стороне около двери, ведущей во вторую гостиную, и распределил чинов посольства позади нас в точном порядке их положения и ранга.
В своей книге «Мои русские воспоминания» Сэр Бернард Перс[3] упоминает о том, что он слышал от моей матери, что на этот приём было разослано три тысячи приглашений, в том числе членам английской колонии, весьма обширной в С.-Петербурге. Я лично точно не помню, сколько было человек, и я не думаю, что их столько было, но во всяком случае казалось, что мы стоим долгие часы, пока мимо нас проходили бесконечные генералы в блестящих формах и орденах, старые дамы в шуршащих платьях, украшенных драгоценным жемчугом, адмиралы, камергеры, чиновники различных ведомств, члены Академии Наук, коммерсанты и пр. Евреинов стоял возле нас и называл по имени каждого гостя. Поздоровавшись, они проходили во вторую гостиную, а оттуда в столовую, где были установлены длинные столы с угощением…
Официально зимний сезон начинался с рождественского благотворительного базара, устраиваемого Великой Княгиней Марией Павловной, в то время вдовой Великого Князя Владимира Александровича. Базар этот устраивался в Дворянском собрании, продолжался четыре дня и был открыт с двух часов дня до полуночи. Все выдающиеся члены петербургского света имели свои киоски, сгруппированные вокруг главного киоска Великой Княгини. Весь Петербург толпился здесь, чтобы купить какую-нибудь дорогую безделушку, внимательно осмотреть туалет присутствовавших и получить благосклонную улыбку Великой Княгини.
Как только кончались Рождественские праздники, начиналась серия балов и вечеров, и промежуток времени между Рождеством и Великим постом был наполнен самыми разнообразными развлечениями. Великосветских барышень отделяла строгая граница от молодых замужних дам: они редко бывали на одних и тех же балах и не имели тех же самых кавалеров. То, что называлось «bal blanc» (с фр. «белый бал» – бал, на котором незамужние девушки танцуют друг с другом или с неженатыми молодыми людьми – А.Х.) давалось только для молодых барышень, иностранцы на них не приглашались, и вдоль стен сидели ряды страшных дуэней, зоркими глазами следивших за танцующими и готовых делать не слишком благосклонные замечания, если какая-нибудь из барышень танцевала более двух раз с одним и тем же кавалером. Каждая из барышень должна была подойти поздороваться и сделать реверанс каждой из этих старух прежде, чем начать танцевать. Если же она не знала кого-нибудь из них, то её надо было церемонно представить. Для иностранки они все казались безнадежно одинаковыми, были всегда одинаково одеты в чёрный, серый или же фиолетовый атлас, носили на плечах меховые палантины и имели изумительный жемчуг. Их волосы были всегда гладко зачёсаны. Я скоро заметила, что делала непростительные ошибки: то меня представляли два раза в один и тот же вечер одной даме, то я подходила к особе, с которой я не была знакома и меня встречали холодные, наставительные взгляды.
Преимущество «белых балов» заключалось в изобилии кавалеров, так как дирижёр танцев должен был следить строго за тем, чтобы барышни не сидели. Кавалеров даже не спрашивали, желает ли он танцевать или же нет; ему ставился лишь вопрос: есть ли у него дама или же нет, и, если кто-нибудь отвечал отрицательно, несчастного молодого человека, внешне покорного, но в душе проклинающего всё и·вся, подводили к даме, и он должен был её пригласить.
Другой характерной чертой «белых балов» было то, что на них очень редко играл оркестр. Обычно его место занимал старый и седой тапёр, который играл уже несметное количество лет на всех балах С-Петербурга, и который, вероятно, знал все тайны знатных семей так интимно и под таким необыкновенным углом, что остаётся только пожалеть, что он не написал книгу своих воспоминаний.
Старые дамы, сидевшие на своих жёстких стульях, бросали на него взгляды, полные сентиментальных воспоминаний: «Как хорошо он играет», — говорили они, покачивая головой в такт музыке. — Помните, когда он играл на балу, который давали maman? Тогда я впервые встретила Сержа. На мне было розовое платье и яблочный цвет в волосах. Великий Князь Павел был тогда на балу. Он ещё не был женат и такой красавец. Ах, моя дорогая…». — И они уплывали на волнах давно умерших воспоминаний, в то время как их дочери танцевали под ритмичную музыку старика, а они следили за ними серьёзными, внимательными глазами, которые, казалось, знали все тайны юности.
На «белых балах» танцевали обычно вальс, кадриль и мазурку; на ту-степ смотрели, как на танец недостаточно элегантный, а офицерам было запрещено танцевать «уан-степ» и «танго», так что весь вечер был занят бесконечными кадрилями. Для этой цели вокруг зала были расставлены маленькие золотые стулья, на которых все сидели в ожидании команды запыхавшегося дирижёра: «Avancez! Reculez! Grand rond! Chaine!» (фр. Вперед! Назад! Большой круг! Линия! – А.Х.). Обыкновенно эти кадрили начинались очень чинно, и кончались бешеным темпом.
К концу вечера объявляли начало котильона. Это была самая важная часть каждого бала. И здесь также ставились золотые стулья вокруг зала и несчастный дирижёр должен был составлять не только пары, но и находить визави, устранять споры, преодолевать осложнения и улаживать взаимные обиды между молодыми людьми, которые желали танцевать с одними и теми же барышнями.
Фигуры котильона не отличались особенно от фигур кадрили, но они сопровождались обычно раздачей лент, цветов и прочих бальных украшений и сюрпризов. Кавалеры раздавали барышням широкие атласные ленты с бубенчиками, а те в свою очередь дарили своим избранникам розетки и ордена. Посреди зала ставились высокие изгороди из красных роз и через них надо было поймать руку невидимого кавалера. Пускались пёстрые воздушные шары. Вносились корзины золотистых нарциссов, тюльпанов и ландышей, парижских фиалок, нежной сирени, букетов роз, гвоздики, тюльпанов и гиацинтов. Эти цветы привозились с юга Франции в специально отапливаемых вагонах и стоили массу денег.
Но котильон не был концом вечера. После него подавали горячий ужин, за который садились парами за маленькими круглыми столами, а старшие — помещались за длинными столами каждый по своему рангу. Своею·строгой формой ужины эти скорее напоминали официальные обеды, и хотя за круглыми столами царило некоторое веселье, старые же дамы, вероятно, радовались концу бесконечного бала. У подъезда ожидали экипажи с кучерами, одетыми в шубы, и терпеливыми, долгогривыми конями, дремавшими в пару. Мигающий свет зажжённых больших костров бросал смутные тени на занесённые снегом улицы. Закутанные в меховые шубы, в ботиках, нагруженные цветами, лентами и воздушными шарами выходили раскрасневшиеся барышни со своими мамашами. Сходили с лестницы группы офицеров, звеня шпорами и весело желая спокойной ночи друг другу. Лошади гремели упряжью, кучера кричали, двери открывались и закрывались. Постепенно гасли огни и, наконец, в большом доме наступала тишина.
На балах, которые давались для молодых замужних дам и на которые меня иногда приглашали, всё было менее церемонно, а следовательно и более интересно. Там, например, не было мрачных рядов пожилых дам, которые сидели вокруг залы, почти не было кадрилей и оркестр Леонарди или Коломбо играл вальсы и «уан-степы» столько, сколько мог пожелать самый завзятый танцор. Играл румынский оркестр Гулеско так, как могут играть только румыны, когда вам кажется, что у вас на ногах выросли крылья, а голова витает в облаках. Если бывал ещё котильон, то он никогда долго не продолжался, и за ним следовал совершенно не церемонный ужин и, так как он бывал обычно не слишком поздно, то после него можно было еще танцевать.
С началом Великого Поста танцы прекращались. Поэтому последняя неделя пред первой неделей поста была сплошь посвящена балам и развлечениям, кульминационным пунктом которых являлось воскресенье, так как по православным обычаям первая неделя поста проводилась в посте и воздержании, и начиналась она после полуночи в воскресенье на масляной.
Таким образом воскресенье являлось «folle journèe» (с фр. сумасшедший день, безумный день. Обыкновенно последний день на масленнице, наполненный веселыми забавами и развлечениями – А.Х.), и надо было пользоваться каждым моментом этого дня. Молодежь проводила этот день, посещая один дом за другим, завтракала в одном месте, пила чай в другом, урывая минуту для балета между ранним обедом и поздним ужином, потом пила чай на «the dansant» (англ. на танцах – А.Х.), который кончался обычно не то ужином, не то обедом, на котором ели, сколько могли в предвидении близкого поста. Семьи, которые имели поместья под Петербургом, приглашали в этот день к себе. Этот день начинался с грандиозного завтрака, после которого ехали кататься в лес, покрытый снегом, или же скатывались на салазках с ледяных гор в саду. За этим следовал обильный чай, после которого играли в разнообразные игры, потом ранний обед и танцы до полуночи, когда всё внезапно смолкало, когда усталый оркестр складывал свои инструменты, тапёр переставал играть, и молодежь вздыхала с сожалением, а старики, быть может, с облегчением. Ещё один большой сезон подошёл к концу.
Однако, после первой же недели строгого поста, опять начинались обеды, за которыми следовали бриджи или же концерты. Балет, опера и французский театр были переполнены, и «five о’сіоск’и» (англ. букв. пятичасовой чай — чаепитие между ленчем и обедом, принятое в Англии и США – А.Х.), завтраки, приёмы и концерты заполняли все дни.
Иногда светские обязанности были очень утомительными и официальные обеды казались чересчур длинными и однообразными. Казалось странным, что от них можно было ожидать веселья и разнообразия. Обычно на них приходилось сидеть рядом с третьим секретарём какого-нибудь восточного посольства, который умел только улыбаться или же издавать какие-то загадочные звуки, когда я к нему обращалась. Или же — с пожилым господином, который разговаривал свысока и задавал нелепые вопросы — вроде: «А как вы переносите петербургский климат? Вам нравится Россия? Находите ли вы наше общество интересным? Вы, вероятно, очень огорчены тем, что «большой сезон» окончился?»
Еда на этих обедах была всегда по одному и тому же образцу. Шампанское было слишком сладким, цветы плохо разложены по столам, разговоры какие-то напряжённые. Дамы рассматривали незаметно туалеты друг друга, как это принято во всём мире, запасаясь критическими замечаниями, чтобы поделиться ими с мужем или же с интимным другом: «Подумай, мой дорогой, мадам Ж. была в новом платье. Я думаю, что она сшила его у маленькой портнихи на Шпалерной, хотя я уверена, что она скажет, что получила его из Парижа. У мадемуазель Д. новая причёска. Очень шикарно, но она выглядит в ней на десять лет старше. Я уверена, что графиня Д. выкрасила в чёрный цвет и переделала своё старое шёлковое платье».
После обеда всё общество садилось за бридж, мужчины рассаживались по углам, разговаривая о политике, женщины говорили о детях и прислуге, и часы ползли медленно к одиннадцати часам, когда можно было уйти.
Однако не все обеды проходили одинаково. Бывали вечера, когда часы бежали слишком быстро, когда было оживлённо и весело, и когда даже самые скучные люди казались приятными. Один из таких обедов, оставивший во мне яркое воспоминание был обед, данный Великой Княгиней Марией Павловной в её большом дворце, построенном в 1870 году, который своей флорентийской архитектурой казался построенным не на месте на Гранитной набережной против покрытой льдом реки. На этих обедах присутствовали обыкновенно самые красивые женщины, самые интересные мужчины, самые занятые члены дипломатического корпуса. Большие белые залы были переполнены колышащейся массой людей, яркими цветами дамских платьев, разнообразными формами военных, сиянием драгоценностей и отличий.
Прежде, чем сесть за стол, гости шли в отдельную комнату, где стоял закусочный стол. Там каждый запасался тарелкой и брал со всех блюд: грибы в сметане, икру трёх сортов, или копчёного сига, волжскую рыбу, солёные огурчики или жареную колбасу, салат Оливье, сёмгу, ветчину, яйца и т.д. Прислуга обносила подносы с рюмками водки. Стоял шум от разговоров, слышался женский смех и создавалась лёгкая, приятная атмосфера. Потом переходили в столовую и, хотя все уже порядком закусили, никто не мог устоять против тарелок дымившегося борща или русских щей, которые подавались со сметаной и пирожками. Все отдавали также честь стерляди, жареным рябчикам, за которыми следовала гурьевская каша, искусно перемешанная фруктами и орехами, на приготовление которой требовалось 24 часа. Между блюдами подавались маленькие жёлтые папиросы, и сквозь их голубоватый дым сияли драгоценности на руках женщин, свет отражался тысячами бликов на орденах или же сиял на золотых аксельбантах на плече какого-нибудь Великого Князя.
Мне кажется, что я была очень избалована, потому что я помню, как мне иногда надоедала вся эта напыщенность и церемонность. Я мечтала о простоте и мне казалось забавным пообедать в кресле у камина или же за кухонным столом. Но, когда я однажды вечером заговорила об этом с сидевшим со мною рядом французским послом, он взглянул на меня своими серьёзными проницательными глазами и тихо·вздохнул. «Какая вы глупенькая», — медленно сказал он, сглаживал тоном своего голоса резкость этих слов: «Вы не знаете, сколько людей вам завидуют, и вы не знаете, с каким сожалением вы это будете вспоминать. У вас теперь так много всего, что оно кажется вам обыкновенным, даже немного утомительным. Но когда-нибудь вы узнаете цену всему этому. Кто знает, несмотря на всё, сколько времени это может продлиться. Кто знает, какие бури могут унести всё это. Этот казак, стоящий за стулом Великой Княгини — какое красочное пятно его черкеска — это символ умирающей традиции и скоро, быть может, всё это будет воспоминанием, и вся эта роскошь и богатство, которые кажутся нам теперь обеспеченными и несокрушимыми, могут исчезнуть вместе с ним».
В тот момент, мне кажется, я не обратила никакого внимания на его слова, приняв их за мрачные размышления человека, который любит высказывать вслух свои впечатления. Но теперь я вспоминаю их с чувством боли, с бесполезным сожалением о прошлом, которое теперь нельзя возвратить.
В России было правило, что жена каждого посла имела свой приёмный день раз в неделю и, хотя этого «ада» моей матери удавалось некоторое время избегать, ей всё же пришлось подчиниться обычаю. Мне кажется, что я так же ненавидела эти среды, как и моя мать.
Эти среды означали, что мне следовало подняться в большую гостиную и сидеть там от двух часов дня до шести-семи часов вечера. Это означало — принимать мало знакомых людей, приходивших толпой. Среди них были два, три странные типа, приходившие аккуратно каждую неделю, для которых посещение нашей гостиной было единственным видом развлечения. Это означало бесконечные чашки чая, бесконечные тарелки с пирожными и бисквитами — а для меня лично — попытки разговаривать с рядом молодых барышень, которые сидели вытянувшись на своих стульях, в скромных шляпах. У них были блестящие носы, прямые волосы, и они не умели разговаривать. Все, конечно, знали, что это только напускное и что, когда они в своём интимном кругу будут разговаривать о религии, философии, любви, отношениях между полами и политике, то они не будут стесняться, и что как только они выйдут замуж, в их внешности произойдет полная метаморфоза: они начнут пудриться, причёсываться к лицу, научатся флиртовать, поддерживать разговор и носить платья из Парижа. Но хотя я всё это знала, мне от этого не было с ними легче разговаривать, и это не разрежало скуки этих длинных зимних приёмов.

Ещё одною особенностью русской жизни был балет, который являлся государственным учреждением и поддерживался правительством. В Англии все знают русский балет, но имеют весьма слабое представление о технической стороне танцев, между тем как в России каждое движение, каждый жест балерины были известны, и ни малейшая ошибка в танце не проходила незамеченной орлиными взглядами критиков, которые сидели в зале. Если на частицу секунды был упущен такт или же в позе балерины было недостаточно гармонии, как зала встречала танец ледяным молчанием. Зато громкие аплодисменты встречали исполнение какого-нибудь трудного пируета или же арабеска.
Обучаясь с раннего детства в императорской балетной школе, русские танцовщицы посвящали всю свою жизнь своему искусству, со всем пылом и энтузиазмом, на которые они были только способны. Было далеко нелегко приобрести ту легкость, которая делала их похожими на порхающих по сцене мотыльков или же выработать силу мускулов, необходимую для гармонии движения. Это означало бесконечные усилия, ежедневно долгие часы утомительных упражнений, вечные уроки; пропустить хоть раз урок это влекло за собою уже некоторую медлительность, движения становились незаконченными, шероховатыми, вместо мягких и плавных, и весь образ танцовщицы становился затуманенным, вместо того, чтобы быть очаровательно ясным.
Когда я была в России, то брала уроки танцев у Соколовой, бывшей прима-балериной Императорского балета. Она считалась одной из лучших преподавательниц балетных танцев С.-Петербурга. Павлова и Карсавина брали у неё ежедневно уроки. Кипы пыльных балетных афиш висели у неё в передней. Картонки, переполненные балетными туфлями, стояли во всех углах, и повсюду чувствовался слабый запах пудры, мыла и одеколона. Иногда, пока я одевалась, слышен был урок в соседней комнате, раздавались звуки дешёвого пианино, на котором играли Шопена или Чайковского, доносились равномерные удары танцующих ног, которые время от времени прерывались строгим голосом: «Pas de chat! Soussole! Pas de bourée!» (фр. букв. движение кошки, «кошачье па» — движение, имитирующее грациозный прыжок кошки; движение танца бурре — особые мелкие танцевальные шаги, имеет значение отдельного школьного упражнения для балетных учеников, входящего в число ежедневных и основных – А.Х.). Нет, нет, левую ногу вперед!». Потом появлялась какая-нибудь разгорячённая фигура и усталая опускалась со слабой улыбкой в кресле. «Теперь ваша очередь, мадемуазель. Мадам готова». И я входила в большую залу, в которой находились один стул с прямой фигурой Соколовой, пианино и ваза с цветами на подоконнике.
Балет бывал каждое воскресенье и каждую среду в Мариинском театре, и почти все кресла и ложи на этом спектакле были заняты по абонементу, который было очень трудно получить, так как эти абонементы буквально переходили по наследству от отца к сыну. В опере можно было сидеть, где угодно, но в балете ни одна дама не могла сидеть нигде, кроме лож. Также считалось неприличным стоять у барьера ложи в продолжение антракта, так что как только опускался занавес, все удалялись в аванложу, где курили, разговаривали и принимали знакомых, которые сидели в партере.
Когда я закрываю глаза, то всё еще чувствую особенную атмосферу этого красивого театра, аромат амбры и шипра, шоколада и папирос, едва уловимый запах отопления, кожи и вековой пыли, поднимаемой на сцене танцующими ногами. Я вижу пред собою белую с золотом и голубым отделку театра, ложи, далекую галерею, партер, переполненный артистами, музыкантами, молодыми дипломатами, офицерами в блестящих формах и старыми генералами. Иногда, вопреки всем правилам хорошего тона, молодые барышни наклонялись из ложи, посылая улыбку какому-нибудь молодому человеку. Несколько старых господ разговаривали серьёзно не о политике, а спросили о технике какой-нибудь балерины, горестно покачивая головой и соглашаясь с тем, что искусство хореографии клонится к упадку, и последние балеты хуже предыдущих. Полные дамы купеческого звания жевали шоколад, преподнесённый им в перевязанных лентами коробках стройными мужчинами; в фойе гуляли молоденькие барышни и молодые люди, занимавшие места на галерее, и за ними наблюдали боязливые мамаши, заедая слабый чай пирожными с кремом.
Внезапно оркестр рассаживался по местам, резко звучал звонок, люди спешили по коридорам, открывались и захлопывались двери лож, слышалось шуршание платьев и движение, в то время как постепенно угасал свет, и большой занавес поднимался, вновь унося в «страну грез».
Примечания:
[1] Бьюкенен Мириэль (англ. Meriel Buchanan; 1886-1959) — британская мемуаристка, дочь последнего посла Великобритании в Российской Империи; автор многочисленных статей и книг, в том числе о Царской Семье и России.
Единственный ребёнок в семье карьерного дипломата сэра Джорджа Бьюкенена. Детство и юность прошли заграницей, где служил отец: в Германии, Болгарии, Италии, Нидерландах и Люксембурге. В 1910 году семья переехала в Россию, куда отец был назначен послом. В России опубликовала два романа о жизни в Восточной Европе: «Белая ведьма» (англ. White Witch, 1913) и «Таня: Русская история» (англ.Tania. A Russian story, 1914). С началом Первой мировой войны семья осталась в России, где мать Мириэль Бьюкенен организовала больницу, а сама она служила там медсестрой. В январе 1918 года семья навсегда покинула Россию.
Начиная с 1918 года, написала ряд книг, посвященных Российской Империи, Царской Семье Государя Николая II, русскому дворянству и международным отношениям: «Петроград: город беды, 1914-1918» (англ. Petrograd, the city of trouble, 1914-1918. — London: W. Collins, 1918); «Воспоминания о царской России» (англ. Recollections of imperial Russia. — London: Hutchinson & Co, 1923. — 227 p.); «Дипломатия и иностранные дворы» (англ. Diplomacy and foreign courts. — London: Hutchinson, 1928. — 228 p.); «Крушение империи» (англ. The dissolution of an empire. — London: John Murray, 1932. — 312 p.); «Анна Австрийская: Королева-инфанта» (англ. Anne of Austria: The Infanta Queen. — London: Hutchinson & Co, 1937. — 288 p.) и др. В 1958 году опубликовала книгу о дипломатической службе её отца – «Дочь посла» (англ. Ambassador’s daughter. — London: Cassell, 1958. — 239 p.).
В 1925 году вышла замуж за майора Валлийской гвардии Гарольда Уилфреда Кноулинга (ум. 1954). У них был единственный сын Майкл Джордж Александр (род. 1929).
[2] Эдуард VII (Альберт Эдуард) (1841-1910) — король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии, император Индии с 22 января 1901 года, австрийский фельдмаршал (1 мая 1904), первый из Саксен-Кобург-Готской (ныне Виндзорской) династии.
В 1875-1876 годах, будучи наследником престола, совершил большое путешествие в Индию, посетив по пути Грецию, Мальту, Египет, Аден, Гибралтар, Италию, Испанию и Португалию; путешествие имело значение для европейской дипломатии.
Имел прозвище «дядя Европы», так как приходился дядей нескольким европейским монархам, царствовавшим в одно время с ним, включая императоров Николая II и Вильгельма II.
Он был первым британским монархом, побывавшим в России в 1908 году. В глазах современников король Эдуард VII был «Миротворцем», как и инициатор франко-русского союза Император Александр III. Пользовался большой популярностью как принц и как король и в Англии, и за границей.
[3] Пэрэ, Сэр Бернгард (Пэр(е)с, возможен вариант написания фамилии Пэйрс (англ. Sir Bernard Pares, 1867-1949) — британский журналист, историк. Рыцарь-командор ордена Британской империи (KBE, 1919). Окончил колледж Св. Троицы Кембриджского университета. Впервые приехал в Россию в 1898 году. С 1906 года преподавал русскую историю в Ливерпульском университете в качестве доцента по Новейшей истории России (Reader in Modern Russian History, 1906-1908 гг.), а затем с 1908-1917 гг. возглавив кафедру Русской истории и литературы (The Chair of Russian History and literature), Б. Пэрес выступил инициатором создания Школы русских исследований (School of Russian Studies) на базе Ливерпульского университета в 1907 г., а в дальнейшем и Школы изучения славянства Восточной Европы (School of Slavonic and East European Studies of the University of London), которая являлась самым большим центром в Великобритании по изучению истории, политики, литературы, социологии, экономики и языков Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы и России.
Принимал участие в организации Общества англо-русской дружбы (Anglo-Russian Friendship Committee), членами которого являлись представители британского парламента, английской церкви, бизнеса и прессы. В 1911 г. он выступил с инициативой создания журнала «Русское обозрение» («The Russian review»), редактором которого являлся в период с 1912-1914 гг. Участвовал в работе Англо-русского литературного общества, деятельность которого с 1922 г. продолжилось под его руководством (1922-1930 гг.).
Основной областью его исследований можно назвать историю России, о которой им были написаны десять работ.
В Первую мировую войну работал корреспондентом The Daily Telegraph на русском фронте. В 1919 году состоял при адмирале А.В. Колчаке в качестве представителя правительства Великобритании. Во время второй мировой войны читал лекции в США по поручению британского министерства информации. С 1942 года жил в США. В 2008 году имя Пэрса было присвоено кафедре российской истории Школы изучения славянства Восточной Европы.
