Записки С.П. Руднева-5
ПРИ ВЕЧЕРНИХ ОГНЯХ
К 100-летию Приамурского Земского собора и восстановления монархии в России. Записки делегата Сергея Петровича Руднева.
ВСТУПЛЕНИЕ
Воспоминания Сергея Петровича Руднева, участника Поместного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 гг. и Приамурского Земского собора 1922 г. во Владивостоке, были написаны практически по горячим следам и изданы в Харбине в типографии «Заря» в 1928 году. Автор посвятил их как назидание «моим дорогим эмигрантам – любимым, богоданным внукам Сергею и Игнатию Хорошевским и племяннику Петру Рудневу».
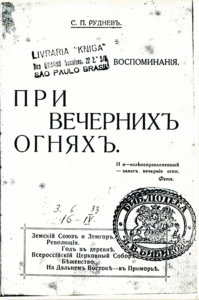 Сергей Петрович Руднев (28.01.1872 — 8.01.1935) родился в гор. Курмыше Симбирской губернии в дворянской семье. Окончил Симбирскую гимназию и юридический факультет Харьковского университета в 1895 году и в течение года был помощником юрисконсульта Юго-восточных железных дорог. В 1896 г. он – сотрудник Елецкого окружного суда. Последовательно занимал должности: судебного следователя в Верхотурье, на Катавских и Симских заводах Уфимского уезда, товарища прокурора в Костромском, Смоленском и Нижегородском судах. С 1906 г. судебный следователь Московского окружного суда, но по семейным обстоятельствам уезжает в Крым, где до 1916 был членом Симферопольского окружного суда, а после смерти жены перевёлся в Симбирский окружной суд на ту же должность. Член Поместного Собора Российской Православной Церкви по избранию от мирянин Симбирской епархии. После революции жил на Дальнем Востоке. Учредитель и товарищ председателя правления Харбинской больницы в память доктора В.А. Казем-Бека. Скончался в Харбине.
Сергей Петрович Руднев (28.01.1872 — 8.01.1935) родился в гор. Курмыше Симбирской губернии в дворянской семье. Окончил Симбирскую гимназию и юридический факультет Харьковского университета в 1895 году и в течение года был помощником юрисконсульта Юго-восточных железных дорог. В 1896 г. он – сотрудник Елецкого окружного суда. Последовательно занимал должности: судебного следователя в Верхотурье, на Катавских и Симских заводах Уфимского уезда, товарища прокурора в Костромском, Смоленском и Нижегородском судах. С 1906 г. судебный следователь Московского окружного суда, но по семейным обстоятельствам уезжает в Крым, где до 1916 был членом Симферопольского окружного суда, а после смерти жены перевёлся в Симбирский окружной суд на ту же должность. Член Поместного Собора Российской Православной Церкви по избранию от мирянин Симбирской епархии. После революции жил на Дальнем Востоке. Учредитель и товарищ председателя правления Харбинской больницы в память доктора В.А. Казем-Бека. Скончался в Харбине.
Книга воспоминаний С.П. Руднева «При вечерних огнях», своим названием отсылающая к сборникам великого русского поэта Афанасия Фета из цикла «Вечерние огни», по мнению авторитетного парижского эмигрантского издания «Возрождение», «прошла незамеченной в общей печати.
А между тем — его воспоминания отнюдь не похожи на тот недавний поток мемуаров, почти все авторы которых, как бы, забегая вперед перед историей, или приписывали себе особые государственные роли или жаловались на то, как их государственных талантов не понимали современники».
И далее автор рецензии делает общий вывод: «Незамеченная книга С.П. Руднева как бы восстанавливает прекрасную традицию нашего 18-го века, когда, также не думая о суде истории или о посторонних свидетелях, наши пудренные пращуры, при вечерних огнях, рассказывали внукам об испытаниях своей жизни. И, читая книгу Руднева, вспоминаешь, например, не раз старинные и бесхитростные записки Мертва́го или Рунича о Пугачевщине. Будущий историк найдёт, вероятно, у Руднева не меньше, чем во многих прославленных мемуарах» (Возрождение, № 1668, 1929).
В моём случае так и произошло: получив книгу С.П. Руднева от одного из русских беженцев первой волны, использовал её материалы при написании своей книги «Восстановление монархии в России. Приамурский Земский собор 1922 года. Материалы и документы» (М., 1993. – 168 с.). Ссылки на книгу С.П. Руднева «При вечерних огнях» встречаются и в других исследованиях историков. Однако, насколько можно судить, в России она не переиздавалась и в настоящее время представляет собой библиографическую редкость и незнакома широкому кругу читателей. Публикуем главу из неё «На Дальнем Востоке – в Приморье», повествующую о ситуации здесь в 1920-1922 годах, о подготовке и проведении Приамурского Земского собора во Владивостоке, восстановившем Династию Романовых на Российском престоле.
Предисловие и публикация Андрея Хвалина.
+
ИНТИМНОЕ. Вместо предисловия. http://archive-khvalin.ru/zapiski-s-p-rudneva-vstuplenie/
Часть I. http://archive-khvalin.ru/zapiski-s-p-rudneva-1/
Часть II. http://archive-khvalin.ru/zapiski-s-p-rudneva-2/
Часть III. http://archive-khvalin.ru/zapiski-s-p-rudneva-3/
Часть IV. http://archive-khvalin.ru/zapiski-s-p-rudneva-4/
Часть V.
В Читу мы приехали ночью, и вагон наш спал. С утра делегация приступила к работе, посещая вместе и порознь как учреждения, так и отдельных лиц.
Прежде всего мы поехали в Краевое Народное собрание — законосовещательный орган, незадолго перед тем созданный Атаманом. Оказалось, что найти это Народное Собрание вовсе не легко: кого ни спрашивали на улице, — не знают. Наконец, один извозчик нашему шоферу пояснил: «Это на Сумасшедшей площади, в жёлтом доме». Я подумал, что это злая шутка, и велико было мое удивление, когда мы действительно поехали по площади, носившей название Сумасшедшей, и подъехали к большому двухэтажному казарменному дому, выкрашенному в жёлтую краску. Должен признаться, что проработав впоследствии свыше двух лет в разных Народных Собраниях, я пришёл к выводу, что возопившие, так сказать, в Чите камни были не далеки от истины…
Площадку входной лестницы, ведущей в зал заседаний Народного Собрания, украшал портрет, на котором краски были ещё совершенно свежи, изображавший Атамана Семёнова во весь рост.
Сам Атаман принял нас у себя после полудня. Он жил в небольшом просторном особняке, обставленном так, как вообще обставлялись в провинции городские квартиры губернского крупного чиновничества. Я видел Атамана в первый раз. Это был человек лет около тридцати трёх с наклонностью к полноте. В чертах его лица была заметна монгольская кровь. Наружность его, да и весь он по складу своего ума и развития, насколько я успел узнать его потом, не выделялся из среднего уровня. Лицо симпатичное и даже располагающее к доверию. Живописец на только что виденном нами портрете несомненно несколько ему польстил, придав лицу его черты величия и геройства.
Атаману Семёнову приписывали большую хитрость; по-моему, она была не выдающеюся. Я хорошо помню, что с каждым из нас Атаман встретился так, как встречаются с людьми, которых видят и зкомятся впервые. Он очень интересовался нашей поездкой в Верхнеудинск, торопил нас ехать скорее туда и просил на обратном пути непременно заехать к нему и тогда повести деловые разговоры об объединении, от которого принципиально он не отказывается.
Закончив беседу, он пригласил нас обедать. Обед был простой, но вкусный, из трёх блюд. Была очень скромная закуска, с неизбежной селёдкой, горячим варёным картофелем и водка, которую хозяин наливал сам. Было заметно, что это тип обычного, с желанием улучшить его для гостей, — обеда. Говорю об этом потому, что молва приписывала Атаману невероятную роскошь.
Кроме нас у Атамана обедали его приближённые: генерал Афанасьев, Войсковой Старшина Власьевский и В.С. Завойко — внук адмирала — героя Камчатки, отразившего, если не ошибаюсь, английский флот от Камчатского побережья в Севастопольскую Кампанию. Памятник этому адмиралу стоит во Владивостоке и стоит довольно крепко: большевики, когда имели в своих руках власть, пытались отбить густые адмиральские эполеты с бронзового адмирала или совсем его снять с пьедестала, но ни то, ни другое им не удалось; — так ненавистный старый режим и остался мозолить глаза Морскому Штабу, в котором неизменно имели местопребывание своё все правительства, которые только были во Владивостоке, и развращать детей, так как сквер вокруг этого памятника – любимое местопребывание детворы.
В Чите мы посетили Главнокомандующего Каппелевской Армией ген. Лохвицкого, командовавшего в Великую Войну нашими экспедиционными войсками во Франции. Я разыскал и побывал у бывш(его) Тов(арища) Министра Земледелия в Омске А.М. Ярмоша, с которым был связан воспоминаниями по омской работе. Он служил теперь в Чите в каком-то кооперативе и собирался ехать в Монголию для покупки скота.
Пробыв в Чите два дня, мы двинулись экстренным поездом дальше.
К нашим двум вагонам оказался прицепленным третий: в нём ехал В.С. Завойко. Цель его поездки была и осталась мне неизвестной, роль — тоже, кроме того, разве, что он был доверенным у Атамана лицом и в этот период времени пользовался у него несомненным влиянием. Всю поездку в Верхнеудинск туда и обратно мы провели вместе, и впоследствии виделись, а я всё не знаю, кто он был и на какие средства жил? Я слышал впоследствии, что он широко жил потом в Японии, где его принимали, если не за князя Романовской крови, то за лицо очень близкое к умученному Государю; оттуда я получил от него для распространения печатный проект конституции для Приморья, пригодной для каждой другой области или губернии России, и, согласно этому проекту, Россия должна была стать федеративными штатами; наконец, позднее я имел от него письмо из Америки, в котором было много фантазий, на приведение которых в исполнение требовались большие деньги, о которых, впрочем, он писал, что в случае одобрения и принятия его проектов, — деньги будут. Так и не знаю я, с каким человеком я имел дело, но, несомненно, с жаждущим власти. Он рассказывал мне, что воспитывался в Александровском Лицее и что был до войны Уездным Предводителем где-то в Юго-Западном Крае. Это он был ординарцем у ген(ерала) Корнилова, и имя его фигурирует в Корниловском деле.
Мне почему-то кажется, что у Завойко была цель вести сношения с Москвою, а это можно было попытаться сделать из Верхнеудинска. По крайней мере, я имею данные полагать, что такие попытки им предпринимались, но, кажется, совершенно безуспешно. Впоследствии он, по-моему, явился роковым для Атамана Семёнова человеком, так как скомпрометировал последнего, как серьезного политического деятеля, безвозвратно, но об этом дальше.
Мы переехали небольшой, охраняемый солдатами Дальне-Восточной Республики, мост через овраг и очутились в пределах последней.
Через сто сажен дальше стоял в лесу одинокий станционный дом. Это была ст. Гонгота, на которой впоследствии подолгу выдерживали лиц, желающих попасть в новоявленную республику, но начали с нас. Мы прожили там четверо суток.
Со стороны Верхнеудинска прибывали то тот, то другой служебный вагон, в которых приезжали какие-то молодые люди — русские и евреи — в военной форме, к которым всё время бегали от нас Кушнарёв и Похвалинский; были раза два и мы все у военных, именовавшихся Бобровым и Павловым, что — без сомнения для меня — являлось лишь их псевдонимами. Велись какие-то переговоры с новыми словечками, а в «общем и целом» — бывшие переливанием из пустого в порожнее, и так в конце концов всё перепуталось, что я не раз с тоскою глядел на восток и в мыслях держал — как бы очутиться через сто сажен за мостом? Тут только я понял, что значит иной раз только сто сажен …
Наши коммунисты начали таскать с собой в Верхнеудинские вагоны крестьян, а те, вернувшись, запирались таинственно в своём купе; мы: я, Еремеев и Завойко не понимали ничего.
Наконец, как-то раз взволнованный Кабцан,— избранный нами Председателем делегации, Секретарём же был Похвалинский, — собрал нас — цензовиков (таково было наше обыденное наименование) и с негодованием заявил, что он отказывается в дальнейшем от председательствования и предлагает избрать коммуниста. Вместе с этим Кабцан сказал нам, что коммунисты требуют от него и Членов делегации, кроме нас — цензовиков, зная, что по отношению к нам это будет бесполезно, предварительного, здесь же на Гонготе, подписания делегацией соглашения о том, что мы будем строить не самостоятельный демократический буфер, а зависящий от Москвы и находящийся в тесном с ней единении. Он, Кабцан, отказался решительно, заявив, что не имеет на это полномочий, отказываются пока и крестьяне.
Было открыто заседание делегации, и Председателем был избран Кушнарёв, а Секретарем Абоимов. На наши вопросы о предлагаемом каком-то соглашении, Кушнарёв подтвердил правильность сообщённых Кабцаном сведений.
Прошло три дня.
Вечером крестьяне сообщили нам, что сейчас приезжал какой-то Дальский – важное лицо, уговорил их соглашение подписать и тотчас же уехал обратно. Кушнарёв затем сообщил, что препятствий для дальнейшего нашего следования в столицу Д.В.Р. нет, и мы завтра тронемся. Еремеев и я возражали, требуя предварительного ознакомления с соглашением, т.к. ни Абоимов, ни Плюхин не могли толком рассказать, что именно они подписали.
Наступил четвёртый день, и когда в ознакомлении с соглашением под разными предлогами нам было отказано, мы с Еремеевым заявили, что уезжаем обратно. Молодой комендант ответил, что желание наше не может быть исполнено за неимением паровоза. Мы сказали, что до ближайшей за мостом станции мы дойдём и пешком.
— Ну как же можно нам отпускать пешком делегатов? Это и думать нечего! — с улыбкой произнёс комендант. Было очевидно, что мы в западне.
Перед обедом Кушнарёв дал нам прочитать подписанное соглашение, которое, впрочем, мы уже знали со слов Кабцана.
Часа в четыре дня откуда-то пришёл Похвалинский очень взволнованным и бледным. Я за дорогу как-то сжился с ним: мне казалось, что в нём, в его натуре, было что-то от Алёши Карамазова. Он это чувствовал и знал. Когда я проходил мимо его купе в салон, Похвалинский раскрыл дверь и попросил к нему войти. Когда я вошёл, он быстро захлопнул дверь и в сильном волнении стал порывисто и несвязно говорить мне, что, что бы со мной ни случилось, пусть я знаю, что он ни в чём не виноват, что это будет помимо его воли.
Слова эти встревожили меня меньше, чем его волнение, и я же начал его успокаивать и уверять, что я никогда и ни на минуту не усомнюсь в нём, как в друге, который одинаков как в счастии, так и в несчастии.
Что произошло, – я не знаю. К этому его, почти юноши, каким он был тогда, сердечному порыву я никогда не возвращался, но — странное дело — на меня это всё подействовало, как хорошая доза успокоительного: я как-то сразу и бесповоротно решил, что чему быть, того не миновать, и стал не только держаться спокойно, но, главное, и чувствовать себя как дома, как везде, а не среди врагов, какими глядели все эти приезжающие из Верхнеудинска.
В ночь мы тронулись дальше. Утром, пока наш паровоз брал воду и дрова на ст. Петровский Завод, я предложил всем сходить на недалеко от станции находящееся кладбище, где должно быть похоронено много декабристов и членов их семей, живших и умерших в Петровском Заводе — главном месте отбытия декабристами каторги, на которую они были переведены из Читы. Кладбище мы посетили, оно расположено на горе и от него открывается красивый вид на лежащий внизу небольшой Петровский Завод, за которым высятся покрытые сосновыми лесами горы. На одной из гор виднеется большой крест, сооружённый кем-то из декабристов.

На кладбище возле алтаря церкви — могила генерала и «кавалера» Лепарского, так тесно связавшего своё имя с декабристами и умершего здесь на своём тяжёлом и требовавшем много ума и такта посту, их стража и начальника. Поодаль, на горке, множество могильных крестов и памятников со знакомыми всем нам — русским интеллигентам — именами. Полуразрушенная часовня возвышается над прахом жены Муравьёва; большая покосившаяся плита сообщает, что под ней покоится вечным сном Анненкова — жена Ив.А. Анненкова — швейцарка Полина, описанная Всев. Соловьевым в его «Горбатовых», как невеста одного из героев романа — Бориса Горбатова. Большою заботою, видимо, когда-то окружалась могила маленькой дочери Бестужева.
На кладбище гуляли каких-то две заводских девицы. На наш вопрос о том, чьи это могилы? — они никакого ответа дать не могли, да и мои спутники, видимо, были не очень сильны в истории движения декабристов, которое принято считать начальным моментом русских революционных устремлений, тянувшихся через всё XIX столетие и завершившихся печальной памяти «великой, бескровной» 1917 года.
