О ТАИНСТВЕННОМ
Рождественские заметки писателя русского Зарубежья
Ильи Дмитриевича Сургучёва – автора повести «Детство Императора Николая II».
«ПАРИЖСКАЯ ТЕТРАДЬ» получена из Франции вместе с другими историческими артефактами русского рассеяния, возникшего в мире после революции 1917 года. Она собиралась на протяжении многих лет одним русским эмигрантом и представляет собой сборник вырезок из русскоязычных газет, издаваемых во Франции. Они посвящены осмыслению остросовременной для нынешней России темы: как стало возможным свержение монархии и революция? Также в статьях речь идёт о судьбах Царской Семьи, других членов Династии Романовых, об исторических принципах российской государственности. Газетные вырезки читались с превеликим вниманием: они испещрены подчеркиванием красным и синим карандашами. В том, что прославление святых Царских мучеников в конце концов состоялось всей полнотой Русской Православной Церкви, есть вклад авторов статей из ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ и её составителя. Блогодарю их и помню.
Монархический Париж является неот емлемой частью Русского мира. Он тесно связан с нашей родиной и питается её живительными силами, выражаемыми понятием Святая Русь. Ныне Россию и Францию, помимо прочего, об единяет молитва Царственным страстотерпцам. Поэтому у франко-российского союза есть будущее.
Публикации первого тома ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parigskaya-tetrad/.
Публикации из ПАРИЖСКОЙ ТЕТРАДИ-2: http://archive-khvalin.ru/category/imperskij-arxiv/parizhskaya-tetrad-2/.
+
Всемирно известный физиолог Павлов вышел из церкви в ограду — отдохнуть после долгой службы. На скамеечку к нему подсел разбитной солдат большевик.

— В церкви был, дедушка? — спросил солдат.
— Да, — ответил Павлов.
— Хорошо помолился?
— Хорошо.
— Значит, в Бога аккуратно веруешь?
— Да.
И солдат рассмеялся. Добродушно потрепал академика по плечу, вздохнул и добавил:
— Э-эх! Темнота!
+
Когда читаешь псалмы Давида (говорят, что они совершенно разительны на древнееврейском языке), то поражаешься, до какой степени в те далёкие, библейские времена у человека устанавливалась тесная связь с Богом. Писать такие стихи, как давидовские, мог только поэт, слышавший ответы Божии. И когда теперь какой-нибудь приват-доцентишка в пенсне со шнурком и в запачканном мелом сюртуке извивается на кафедре и говорит, что он верит только в то, что можно проконтролировать «разумом», то хочется сказать:
— Твоя наука живет тысячелетия и ещё не знает, что такое разум. Больше: она не знает, как вылечить насморк.
(…)
+
Астрономы почти всегда верят в Бога, и как можно не верить, разглядывая в телескоп звёздное небо? Почти все астрономы похожи на монахов, носящих штатское платье. У астрономов — всегда особый модус жизни, они рассеяны, пренебрежительно относятся к деньгам и почти всегда несчастны в семейной жизни, гости дальней стороны. Они смотрят на вас отсутствующими, не видящими глазами и слабо, по-детски, улыбаются.
Однажды в Палермо, посетив королевскую обсерваторию, в которой, по словам моего гида, телескоп стоил сто тысяч лир (довоенных), я спросил астронома:
— А была ли и ходила по небу рождественская звезда?
Я тогда был молод, Саксонии еще не посещал, и мог задавать всякие вопросы, порой развязные.
Астроном посмотрел на меня выше головы, улыбнулся и ответил:
— А, конечно, была, синьор. Это давно установлено. И вообще тому, что написано у евангелистов, вы можете верить без проверок.
+
И вот однажды, в бытность мою в Праге, я собирался в кинематограф. Перед сеансом зашёл в пивную, выпил кружку двенадцатиградусного лежака (сорт чешского пива – ред.) и съел десять дека чудесной и сочной венгерской колбасы. После сеанса я еле нашёл в себе силы добраться домой, на окраину города, в Коширже. Ночью чуть не подох от боли в правом боку, но когда хозяйка, пани Сербова, давала мне советы на счёт врача, я эти советы отклонил. Вообще не люблю лечиться, а если уж лечиться, то только у врачей русских. О болезни я должен разговаривать на русском языке. Температура была нормальная и к полудню боли прекратились: я хотел встать с кровати, но к удивлению в здоровом теле не оказалось сил.
Я стал в постели читать газеты и вдруг увидел, что дверь моей комнаты отворилась и в комнату вошёл мой отец, умерший в 1907 году. Отец подошёл к кровати, сел у моих ног, прикоснулся ко мне рукой и голосом, звук и тембр которого я уже забыл, сказал:
— Что ты делаешь? Позови врача.
И той же спокойной походкой ушёл из комнаты.
Через четверть часа у меня был врач-чех и сказал мне на плохом русском языке:
— Пан! Ваша болезнь неинтересная.
И ушёл. Я обрадовался, истолковав эти слова в том смысле, что моя болезнь пустяковая.
Но ещё через четверть часа к подъезду подкатил автомобиль, в комнату вошли тот же врач и два санитара в кожаных картузах и на носилках вынесли меня на улицу.
А ещё через четверть часа меня осматривал главный врач университетской клиники и, осмотрев, сказал своему ассистенту по-латыни:
Ad faciendum (лат. делать – ред.).
Я по-латыни понимаю и догадался, в чём дело. Догадавшись, я заявил, что ничего над собою делать не позволю, пока ни приедет русский врач. Чехи серьезно сказали:
— Геске, — т.е. хорошо.
И в ожидании русского врача стали производить надо мной какие-то таинственные манипуляции. Одним словом, когда я открыл глаза, то первое, что увидел, это был старик, мотающийся по комнате из угла в угол, и сестра милосердия, сидевшая у моей кровати.
Сестра, заметив моё пробуждение, ласково и тихо сказала:
— Вы оперированы, лежите смирно. Пить? Пить нельзя.
Недели через три доктор Печирка (милейший и тончайший врач, я хотел бы, чтобы эти благодарные строки дошли до него), делая мне обычную утреннюю перевязку, сказал мне печально:
— Вот сегодня привезли к нам такого же большого и крепкого пана, как вы, с такой же болезнью, как у вас, я же делал ему операцию, и пан уже лежит в часовне.
— В чём дело? — спросил я.
— Пан опоздал на пять минут.
— А я?
— А вы не опоздали на пять минут.
— И только?
— И только. Вот две судьбы. Один пан лежит в часовне, а другой будет играть первых любовников.
Пан Печирка в шутку уверял меня, что я — актер и дёргал при этом за ухо.
Я твердо верил, и до конца дней моих буду верить, что спас меня мой отец.
+
Почему я пишу об этом?
Тысячу девятьсот тридцать шесть лет тому назад в мире происходили таинственные вещи: на небе появилась невиданная, яркая движущаяся звезда. Из разных углов мира ее рассмотрели только три волхва. Захватив золото, смирну и ладан они начали путешествие «со звездою» и пришли в Вифлеем иудейский, и увидели девушку, неискусобрачную, родившую сына.
Чудеса, чудеса, чудеса…
И в старое доброе время, в рождественских номерах, газеты всего мира всегда писали о чудесах. Особенно хорошо писал в Англии Диккенс. Помните его рассказ о скряге Скрудже?
Потом этот добрый дедовский обычай исчез, и в рождественских номерах стали писать о том, как всё та же Марья Ивановна любила всё того же Ивана Иваныча, по чеховскому рецепту.
А меж тем, наступают святые вечера. Где-то лежат снега, трещат морозы, в берлогах спят ведмеди («курлы-курлы»), на лету замерзают галки, и люди потихоньку поют прекраснейшую из песней:
— Христос рождается — славите, Христос с небес — срящите, Христос на земли — возноситеся. Пойте, людие — и вся земля!
Пойте! И хоть в эти дни перестаньте пожирать друг друга!
И. Сургучев.
Примечание.
Источник: Возрождение. № 4060, 9 января 1937.
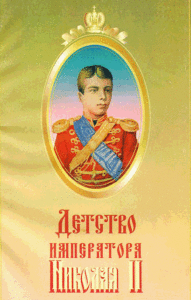
Илья Дмитриевич Сургучёв (1881-1956) — русский прозаик, драматург, публицист, литературный критик, мемуарист. Родился в семье Дмитрия Васильевича Сургучёва, купца 2-й гильдии, выходца из крестьян Калужской губернии. Детство и юность прошли в городе Ставрополе. Окончил с отличием в 1901 году Ставропольскую духовную семинарию, а в 1907 году — факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета.
Писать стал, будучи гимназистом. Первой своей серьёзной вещью писатель считал повесть «Из дневника гимназиста» (1898). Был одним из организаторов издания в Ставрополе сборника «Наш альманах», журналов «Ставропольский Сатирикон», «Сверчок».
Первый сборник рассказов вышел в петербургском издательстве «Знание» в 1910 году. В 1915 году, по заказу Константина Сергеевича Станиславского, Сургучёв написал для Московского Художественного театра пьесу «Осенние скрипки», впоследствии получившую большое признание.
Участник Белого движения. В 1920 эмигрировал в Константинополь, затем, в 1921 году, переехал в Прагу, а летом того же года — в Париж.
К наиболее известным произведениям, созданным Сургучёвым в эмиграции, относятся пьеса «Реки Вавилонские» (1922), «Эмигрантские рассказы» (1927), повесть «Ротонда» (1928) и др. В 1953 году в Париже было опубликовано одно из наиболее значимых произведений Сургучёва, написанных за рубежом, — повесть «Детство Императора Николая II». Похоронен на «русском» кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в предместье Парижа.
