«Мы за Есенина!»
К 125-летнему юбилею великого русского поэта публикуем неизвестную широкому российскому читателю статью из парижского журнала «Возрождение» за 1951 год о попытках советских идеологов извратить подлинный смысл есенинского творчества.
«ЕСЕНИНЩИНА» И СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
Мы вспоминаем сегодня Сергея Есенина[1]. Но для меня, — как и, я уверен, для многих моих товарищей, новых эмигрантов, присутствующих на этом вечере, — это не только вечер воспоминаний о погибшем поэте. Тут мы вспоминаем нашу, увы, отшумевшую юность, потому что Сергей Есенин был не просто поэт, литератор, написавший 15.000 стихотворных строк, которые составили четыре объёмистых тома, — нет, он был частью нашей жизни, нашей трижды благословенной и трижды проклятой юности.
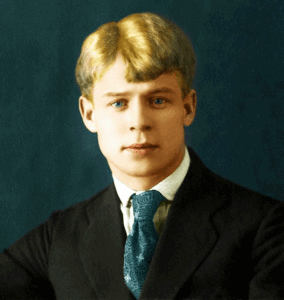
Потому я буду говорить сперва не о Есенине, а о нас, о русских людях моего поколения, значит, и о самом себе. Юность… Вот вспоминается мне золотое июньское утро 29 г. Тогда мне шёл 18-й год, и я только что окончил школу-девятилетку. То было в Канске, маленьком сибирском городке между Красноярском и Иркутском. Если кому-нибудь из вас случалось проезжать по транссибирской магистрали, то вы могли видеть на жёлтом, крашеном охрой здании вокзала такую табличку:
КАНСК-ЕНИСЕЙСКИЙ
До Москвы — 4.368 км.
До Владивостока — 4.980 км.
Глушь… Глубокая провинция… Деревянные домики с похилившимися заборами, тротуары в три доски, — в дождливую погоду под досками хлюпает грязь, — на окошках пунцовые герани и олеандры; по-над рекою городской сад, пыльные тополя, по вечерам играет духовой оркестр пехотного полка, расквартированного на окраине города, а дальше — по берегам реки — густые, весною дурманные черемуховые забоки (лесок вдоль берега речки, озера – ред.), в которых воркуют лесные голуби.
Год, как я сказал, был 29-й. Несколькими месяцами позже, в ноябре, Сталин напишет статью «Год великого перелома», произнесет речь на конференции аграрников-марксистов, в которой провозгласит переломные лозунги: ликвидация кулачества, как класса, выкорчевывание частно-капиталистического сектора в городе и деревне. Но это будет несколькими месяцами позже, а весной, в июне 29 г., в далеком сибирском городе ещё в точности никто не знал, какие планы подготовляет Москва, как московские правители замышляют переламывать хребет России. Весной 29 г. Канск жил ещё как бы мирной жизнью: на Сенной площади барышничали лошадьми, на Базарной бабы торговали калачами и «ходи», китайцы, выглядывали из деревянных ларьков, завешенных шелковыми ленточками, сарпинкой, чесучей.
Но и тогда уже жизнь казалась мирной только на поверхности. В воздухе же было нечто такое, что давило на душу, предвещало грозу — новую революцию, революцию 30 г., которая, на мой взгляд, была, и страшнее, и разрушительнее революции 17 г. Что же такое носилось в воздухе?
А вот что… Я сказал, что мне вспоминается золотое июньское утро 29 г. Накануне в Канской школе-девятилетке, школе 2-й ступени, как её тогда называли, закончился учебный год. Ночью был выпускной вечер: спектакль, концерт, речи. Мы, выпускники, 18-летние парни, кажется, даже чуть подвыпили. Помню, что расходились мы на рассвете. По улицам хозяйки гнали коров, пастухи щёлкали бичами, но Базарная площадь была ещё пустынна. Мы с приятелей, Костей Овчинниковым, вышли на площадь, сели на травку возле телеграфного столба и помолчали как-то, задумались:
«Ну вот, школа окончена… Что-же дальше?»
Вопрос был не напрасный. Дело в том, что Костя исключался из школы за то, что выпускал рукописный журнал не всегда приличного содержания, и в его аттестате было помечено: «Исключался из школы за хулиганство», а я, хотя и не выпускал неприличных журналов, тоже три раза исключался из школы, и в моем аттестате, в графе «Общественно-политическая работа», значилось буквально следующее:
«Идеологически невыдержан — насаждал есенинщину».
В моей жизни — и, я уверен, в жизни многих русских людей моего поколения — это слово «есенинщина» сыграло огромную роль. Прежде всего, каковы были последствия того, что это слово значилось в моём аттестате? Летом 29 г. я поехал в Москву — поступать в университет. Меня не допустили даже к экзаменам. Настойчивый парнишка, я пошел хлопотать и дошёл до самого Вышинского, который был тогда начальником Главпрофобра. Вышинский посмотрел на аттестат и сказал:
«Нет, мы не можем принять вас в университет».
И добавил:
«Я вам советовал бы пойти на завод, просто чернорабочим. Поработайте годика два-три, проявите себя на общественно-политической работе, смойте это пятно «есенинщины», заручитесь рекомендацией заводской партийно-комсомольской или профсоюзной организации, и вот тогда приходите к нам, мы вас примем в университет».
Четыре года спустя, летом 33 г., мне пришлось быть в Сочи. Тогда как раз вводили паспортную систему. Я работал в газете «Сочинская правда», и когда моя буква «К» должна была получать паспорта, я пошел, как и все, в милицию. Там меня приняла секретарша. Так как все анкеты и вопросники заполнялись заранее и заверялись по месту службы, то процедура обычно была недолгая: просто написать в паспорте китайской тушью всё, что полагается, и дать на подпись начальнику милиции. Но на мне секретарша запнулась. Взглянув на анкету и приложенные к ней документы, она вдруг подняла на меня глаза:
«Но как же… Тут вот сказано — «насаждал есенинщину». Я не знаю, полагается ли вам сочинский паспорт».
Дело в том, что Сочи был объявлен «правительственным курортом», — там дача Сталина, — и сочинский паспорт приравнивался к московскому. Человек, которому отказывали в сочинском паспорте, должен был покинуть Сочи и поселиться в другом городе по указанию милиции. То было вроде административной высылки.
«Подумаешь, «насаждал есенинщину»! — воскликнул я. — Ведь то было где — в школе? Четыре года назад! А теперь я работаю в газете. Вот только-что книжка моя вышла из печати в Ростове-на-Дону».
Она взяла книжку, документы и пошла к начальнику милиции. Тот позвонил редактору. Редактор, Олег Бабинцев, ответил, что он за меня ручается, что «есенинщина» была просто детской болезнью, от которой я излечился. Паспорт мне выдали…
Как видите, Есенин чуть ли не десять лет спустя после смерти всё ещё как бы следовал за советским юношей на его извилистых, пересечённых жизненных путях, — путях всей русской молодежи моего поколения. Есенин был частью нашей жизни. Как ни один другой поэт во всей истории русской литературы. Не было «пушкинщины», — «пушкинизм», это другое, — и после гибели Пушкина по России не прокатилась волна самоубийств, как она прокатилась после гибели Есенина. Не было «некрасовщины», «блоковщины» или даже «маяковщины», но была «есенинщина», необыкновенно яркое явление в истории русских общественных настроений. В этом смысле Есенин занимает совершенно особое место в истории русской литературы, и от него нельзя отмахнуться просто, как от «сельского писаря с тальянкой»[2] или как от хулигана, писавшего стихи про «сисястых» баб. В Нью-Йорке нашлась группа русских эмигрантов, которые отметили 25-летие со дня смерти Есенина тем, что разыграли на сцене скэтч: «Появление Сергея Есенина с жёнами», — эти господа просто не ведают, что творят. Оплёвывать Есенина — значит оплёвывать Россию, русский народ, потому что мы — мои ровесники, юность которых прошла под знаком Есенина — всё-таки составляем немалую часть русского народа.
Нет, от Есенина не отмахнуться. Один русский писатель говаривал, что сам-то он так себе, человек посредственный, только тема у него талантливая. Не буду вдаваться в споры, какого калибра был талант Есенина. Важно то, что он, как никто другой, сумел затронуть в русских сердцах нечто такое, что Россия всколыхнулась и ответила ему всенародной — по истине всенародной! — любовью. Большой ли был талант у Есенина или маленький, но «есенинщина» была явлением огромной важности, и её никак не обойти.
Что же такое «есенинщина»? В 27 г·, в Москве, в Коммунистической академии — мозговом центре большевизма — происходила большая дискуссия, длившаяся много дней — с 13 февраля до·5 марта. В дискуссии принимала участие вся «головка», определявшая направление, так называемой, «советской культуры». Начать с того, что основным докладчиком был народный комиссар просвещения Луначарский, а в прениях выступали Карл Радек, Преображенский, Сосновский, Вяч. Полонский, Кнорин, Фриче, Нусинов, Маяковский, Виктор Ермилов и десятки «представителей общественности». Тема дискуссии была сформулирована так: «Упадочное настроение среди молодежи. Есенинщина».
Издательство Коммунистической академии тогда же, в 27 г., выпустило стенограммы дискуссии отдельной книгой. Надо сказать, что незадолго перед тем вышла книжка Бухарина «Злые заметки», опять-таки посвящённая «есенинщине». Бухарин писал:
«Есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания, явление нашего литературного дня».
Книжка Бухарина — злая. Потому она никак не решает вопроса — даже по-большевицки не решает. Но она вскрывает всю тревогу большевизма перед лицом «есенинщины». Бухарин ставит тревожные вопросы:
«Чем захватывает молодежь Есенин? Почему среди нашей молодежи есть кружки «есенинских вдов»? Почему у комсомольца частенько под «Спутником коммуниста» лежит книжечка стихов Есенина? Потому, что мы и наши идеологи не трогали тех струн молодежи, которые тронул — хотя бы в форме вредоносной по существу — Сергей Есенин».
На дискуссии в Коммунистической академии ставился тот же вопрос. «Товарищи! — восклицал Вяч. Полонский. — Ведь мы имеем дело с поэтом, которым увлекается наша молодежь. Плохой поэт или хороший, но где причина увлечения этим поэтом нашей молодежи?». Лев Сосновский, известнейший журналист, рассказывал:
«Тот хорошенький залп по есенинщине, который рекомендовал дать Бухарин с очень большим запозданием, этот залп нужно было дать в 1923 г., если не раньше… Я видел, товарищи, приехавшего из Орехова-Зуева редактора тамошней газеты. Я был поражён, что первая страница там вся посвящена Есенину. Первая и — вся.·Оказывается, там на некоторых фабриках, в том числе и на Дулёвской фарфоровой имени «Правды», — в комсомоле, наряду с официальным бюро, есть «бузбюро», от слова «бузить», из восторженных есенинцев и есенинок, которые ставят задачей срывать организационную работу комсомола. Сотрудник «Правды» т. Володин ездил туда сам, лично разговаривал с комсомольцами и комсомолками, которые открыто говорили: «Мы за Есенина, мы считаем, что он наш учитель». Они ему заявили: «Вы нас ничем не переубедите». Они рассказывали ему о многих тревожных явлениях среди рабочей молодежи Орехово-Зуевского района, которые убедили его в том, что нужно целую страницу, первую страницу отводить этому делу. Это и есть тот кризис культуры среди молодежи, о котором здесь говорили».
Карл Радек: «Понятно, что вопрос о Есенине есть часть вопроса об упадочных настроениях среди молодежи. Есенинщина сделалась отчасти выражением упадочных настроений среди молодежи. Это — маленький, случайный кусочек великого — социального и политического — вопроса».
Один оратор, «представитель общественности» по фамилии Иванов, рассказывая про группу в 8 человек, которые «очень увлеклись этой есенинщиной. Начали читать Есенина, потом дошли до того, что решили покончить жизнь самоубийством». И, действительно, после смерти Есенина по всей стране прокатилась волна самоубийств. Отзвуки этого слышатся в известном стихотворении Маяковского «Сергею Есенину»:
Не откроют
нам
причин
потери
Ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.
Подражатели обрадовались:
бис!
Над собою
чуть не взвод
расправу учинил.
Почему же
увеличивать
число самоубийств?
Лучше
увеличь
изготовление чернил!»
«Мы за Есенина!» — так говорили в Орехово-Зуеве, так говорили и в нашем Канске, так говорили по всей стране. Так говорила не только интеллигенция, учащаяся молодежь, студенчество, но и фабрично-заводская молодежь, как это показывает пример Орехово-Зуева. Правда, что «есенинщина» была лишь выражением упадочных настроений среди молодежи, и вызвана она была не смертью Есенина, возникла раньше, — Сосновский считал, что большевизм должен был дать залп по «есенинщине» еще в 23 г.
В моем школьном аттестате было сказано: «насаждал есенинщину». Но «есенинщину» вовсе не надо было насаждать, — упадочные настроения среди молодёжи распространялись, как палы по ветру. В Сибири у нас в 28-29 г.г. было даже два громких дела — в Томске и в Иркутске. В Томске существовал нелегальный кружок из школьников-второступенцев. Назывался он — «Chat Noir» (с фр. чёрная кошка – ред.) — по названию модного, в те времена, фокстрота. Кружок этот собирался в комнате, где под потолком тянулся сделанный из картона и освещённый изнутри «зелёный змий». Пили, читали стихи Есенина, танцевали, что в те годы — в годы дискуссий на темы «можно ли комсомолке пудриться?» — считалось занятием весьма предосудительным. По делу кружка «Chat Noir» был даже судебный процесс, к которому приплели какую-то старуху-генеральшу, будто бы развращавшую советскую молодёжь и тоже «насаждавшую есенинщину».
В Иркутске в школе девятилетке существовал кружок «Черные крылья», который имел написанную программу. Программа ставила целью «психологическую подготовку к самоубийству».
В Канске у нас не было «Черных крыльев», как не было и «Chat Noir». Нас звали просто «анаховцы», по имени Ивана Анахова, молодого преподавателя литературы, талантливого поэта, который был арестован и сослан куда-то. Пока он был жив-здоров, мы собирались у него на квартире, — читали Есенина, сами писали стихи «под Есенина», а когда Анахова не стало, продолжали быть «анаховцми». Нас несколько раз исключали из школы. Однажды сразу исключили 47 человек. Это был скандал на весь город, даже на весь уезд. Так как в классы, на занятия, нас не пускали, мы целыми днями толклись возле школы. На улице к нам подходили незнакомые люди и выражали сочувствие. Помню, ко мне подошла одна женщина и сказала: «Весь город — с вами». Некоторых приняли в школу обратно, но выпустили с пометками в аттестате вроде моей: «Насаждал есенинщину».
«Чем захватывает молодежь Есенин?» — спрашивал Бухарин. «Где причина увлечения этим поэтом нашей молодёжи?» — вторил Вяч. Полонский. Почему вся — повторяю, вся! — советская молодёжь в конце 20-х гг. в один голос заявляла: «Мы за Есенина»? Почему? Как возникли и почему так широко распространились упадочные настроения среди молодёжи?
Большевистские публицисты пытались найти ответы на эти вопросы. Это было крайне необходимо, чтобы отвратить молодёжь от «есенинщины», найти какие-то лекарства от болезни упадочничества. Поиски их были тщетны, потому что они искали в ложном направлении.
В докладе на диспуте о «есенинщине» Луначарский задавался вопросом: «Что же мы можем сделать для того, чтобы изжить есенинщину? На первый план я поставлю культурно-политическую пропаганду. Надо, чтобы каждый наш гражданин понимал пути революции, понимал, за что мы взялись, что мы делаем, и что нам осталось сделать, как мы осуществляем наши идеалы, каким темпом мы идём вперёд». Далее он говорил о необходимости поднять «культурный уровень наших масс», о необходимости «широкого развития физкультуры», о клубной работе и т.п. В таком же духе высказывались и другие ораторы. Некоторые, правда, понимали, что суть вопроса заключалась вовсе не в том, что мало клубов и физкультуры, и даже намекали об этом в своих выступлениях. Вяч. Полонский почти с трагическим пафосом восклицал:
«Молодежь-то увлекается Есениным не потому, что он был алкоголиком! Ведь то поветрие есенинщины, которое мы наблюдаем среди молодёжи, было вызвано громадной силой поэзии Есенина».
И вот только теперь мы, молодые русские люди моего поколения, пережившие это поветрие «есенинщины», только теперь, на свободе, мы можем задуматься и дать себе отчёт, что же такое тогда с нами было?
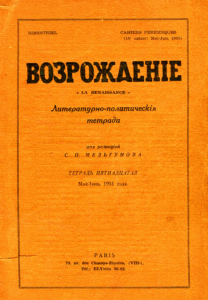
Почему мы в 20-х г.г., особенно в конце 20-х г.г., все, как один, говорили: «Мы за Есенина»? Если за Есенина, то — против кого? Или — против чего? Луначарский совершенно напрасно думал, что «культурно-политическая пропаганда» могла противостоять есенинщине, напрасно предполагал, что если «наш гражданин» будет понимать «пути революции», будет понимать «за что мы взялись, что мы делаем, и что нам осталось сделать», то и выветрится «поветрие есенинщины». На мой взгляд, — и тут основная мысль моего сегодняшнего выступления, — упадочные настроения, охватившие в 20-х г.г. советскую молодёжь, именно тем и были порождены, что молодёжь, — наиболее чуткая, наиболее отзывчивая и наиболее максималистски, экстремистски настроенная часть общества, — молодежь, если не понимала ещё, то уже чувствовала «пути революции», чувствовала — «куда мы идём, куда заворачиваем» и «за что мы взялись, что делаем, и что нам осталось сделать». Не забудем, что год 29-й, когда в школах ставили отметки: «насаждал есенинщину», год этот был «годом великого перелома». Именно тогда, в конце 20-х г.г., в России — в особенности в России, более, чем где-нибудь в Европе, — отчетливо вырисовалось то, что некоторые прозорливые люди заметили с первых дней июля 14 г., с начала первой мировой войны. Под пушечные залпы первой мировой войны открылась новая эра — эра тоталитарных режимов, фашистских, большевистских, национал-социалистических, не знаю ещё каких. Началось новое время, когда все люди должны были перестать быть людьми, а стать слугами государства, приказчиками тоталитарного правительства, роботами. Начался, как это хорошо сказано у англійского поэта Одена, «the age of anxiety», «век тоски». Конечно, не всем это стало ясно сразу же; надо было быть человеком такого калибра, как покойный Н.А. Бердяев, чтобы уже в 14 г. написать пророческую статью «Конец Европы». Но к концу 20-х г.г. в России всем было ясно, что мы вступили поистине в новый век — век тоски, беспокойства, тревоги.
Тридцать лет назад Ленин сказал, что Россию надо превратить в военный лагерь. За четверть века после смерти Ленина Россия превратилась в сплошную казарму. Недавно Сергей Максимов рассказывал мне про нью-йоркского коммерсанта-меховщика, только что пробывшего два месяца в Ленинграде.
«Ну, что же он там видел?» — спросил я.
«То, что все — в форме».
Простого человека не стало. Все — в форме, все — с погонами. У одних погоны золотые, у других серебряные, широкие или узкие, но все — с погонами. Нет человека, а есть слуга государства.
Трагично то, что теперь, двадцать лет спустя после «великого перелома», мы, кажется, не так уже остро переживаем те перемены, которые нам всем пришлось претерпеть. Мы привыкли к униформе, наши мысли облечены в униформу, — какую, это не важно — в России — в большевистскую, вне России — в анти-большевистскую. И тут ничего не поделаешь — война. The age of anxiety…
Весной 45 г., когда я приехал в Париж, мне один знакомый, старый эмигрант, торговец подержанными автомобилями, сказал:
«Я познакомлю вас с одним русским журналистом».
В то время я остерегался заводить знакомства и потому спросил:
«А он какой? Больше красный или больше белый?»
«Да — никакой! — ответил мой знакомый. — Он просто любит выпить».
Это оказалось неправдой; журналист этот стал сотрудничать в «Русских Новостях» и даже взял советский паспорт. «Никаких» в наше время нет — вывелись такие люди. Да я и понимаю: нельзя быть «никаким» — надо выбирать. Надо надевать ту или другую униформу. Каждый выбирает по возможностям, обстоятельствам, иногда·— гораздо реже! — по собственным вкусам и наклонностям.
Вернемся, однако, к Есенину и есенинщине. Вот уж Есенина никак не представишь в униформе — ни в солдатской, ни в той, которую шутник Михаил Кольцов предлагал выдать поэтам на съезде писателей в 34 г.
Есенин, как известно, был мобилизован в 16 г. У него был друг, Михаил Мурашов, к которому он попал от Блока, как только поехал в Петербург. Мурашов во время войны служил в Морском ведомстве. В своих воспоминаниях он рассказывает, что как-то раз Есенин пообещался прийти к нему, и вот — всё не идёт и не идёт.
«Через неделю звонок по телефону. Слышу: Есенин.
Ты что пропал? — спрашиваю.
Я, брат, в казарме. Выручай.
В казарме ему было трудно. Заели насекомые. Заставляли снять волосы. Этого то он боялся пуще всего. Он следил за своими кудрями. Часто мыл голову. А тут на нарах, в грязи…»
Вероятно, Есенин вовсе и не понимал того, что наступили новые времена, когда не до кудрей, когда всех нас — миллионы и миллионы людей, — государства будут стричь под нолёвку и выстраивать в шеренги.
Есенин же не мог быть без кудрей, — в кудрях, фигурально говоря, ведь и выражалась вся его натура. Из армии он, в конце концов, дезертировал. Но — куда бежать? Владимир Маяковский уже кричал зычным басом: «Левой! Левой!» и даже Блок написал: «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг», и «Комсомольская правда» не раз использовала эти блоковские строки в качестве шапки, лозунга на всю газетную страницу. Есенин пытался держать шаг, пытался «задрав штаны, бежать за комсомолом». Но из этого у него ничего не вышло, потому что надо не «бежать, задрав штаны», а маршировать в боевой колонне. Солдат, маршируя в рядах, не должен глядеть по сторонам. Командир роты то и дело кричит: «Выше голову!» и приказывает «равняться в затылок». А Есенину хотелось глядеть на многое — на поля родные, на пташек, что порхают в кустах, на всё, что есть живого в мире, человечьего и звериного, но не солдатского, не машинно-роботного.
Есенин любил поля, русскую землю, — правильнее сказать, рязанскую свою сторонушку. Мы, читая Есенина, бываем захвачены потоком лиризма и не замечаем, что все подробности есенинских стихов реальны, не выдуманы. Читая в «Анне Снегиной» строки: «Иду я разросшимся садом, лицо задевает сирень», мы переживаем это так, будто Есенин пишет о нас, обо мне и садах, по которым мы ходили. На деле Есенин писал о своём саде, — все стихи его автобиографичны. Если он вспоминает в стихах сгоревшую избу, то потому, что старая изба его действительно сгорела в августе 22 г.,·когда большой пожар уничтожил целый порядок дворов в селе Константинове. В поэме «Русь советская» он говорит про своё село, что там «мельница, бревенчатая птица, с крылом единственным, стоит, глаза смежив»; теперь этой мельницы уже нет, но она была тогда, когда Есенин писал эти строки, и одно крыло её, действительно, было сломано.
Есенин любил русские поля, и у него было очень русское, специфически русское восприятие мира, природы, которую он воспринимал, как нечто живое, органическое. Он любил животных. Он написал «Песнь о собаке», стихи «Корова», «Табун», «Лисица». Он был счастлив тем, что «зверей, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».
Но такой любви нет больше места в мире. Мир страшен. Что дал мир Есенину? Есенин пришёл из полей в город как раз в самое тяжкое время мировой войны. Он нёс в себе песню, песенную силу русского народа, но —
Кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов?
Он говорил: «Не губить пришли мы в мире, а любить и верить». Но в мире не стало ни любви, ни веры. Есенин не мог принять и не принял жестокости новой, открывшейся первой мировой войной эпохи. В поэме «Русь уходящая» он писал:
Что видел я?
Я видел только бой,
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с жёлтой головой
Я по планете бегал до упаду.
И что видели мы? The lost generation… (с анг. потерянное поколение – ред.) — это было сказано американской писательницей[3] о том поколении, к которому в России принадлежал Есенин. Но это может быть сказано и о нас. Вот моё первое, раннее воспоминание детства: мать держит меня на руках, по деревенской улице идут парни, хрипит гармошка, плачут бабы, пьяные голоса кричат песню: «Угоняют нас, братцы, в солдаты…». «Мобилизация», — едва ли не первое слово, которому мы научились в детстве. Перестали мобилизовать на войну, начались большевистские мобилизации. Посевной фронт, хлебозаготовительный, фронт коллективизации, индустриализации. Подросли, пошли в школу, там фронт антирелигиозный, идеологический. Далее — фронты второй мировой войны. Бараки диписких лагерей (для перемещённых лиц – ред.). И вот, по всей планете бегаем до упаду…
Последние стихи Есенина были криками отчаяния. И нам, советской молодёжи 20-х г.г., нужны были его стихи, потому что и в нас — в молодёжи, которая всегда чутка и отзывчива — был этот испуг перед надвигавшейся эпохой «великого перелома».
Есенину ничего не хотелось, кроме одного — «звенеть в человечьем саду». Но человечий сад вырублен двумя мировыми войнами. Есенин искал «глупого счастья с белыми окнами в сад». Но нет больше счастья в мире — счастья, веры, любви. Только одно остаётся — тоска по счастью. Тоска — остаётся. И остаётся изошедший тоскою поэт Сергей Есенин, выразитель нашего общего горя и нашего общего отчаяния. Можем ли мы забыть его? Можем ли мы выкинуть его из сердца? Нет! Есенин незабываем, потому что больше, чем кто-либо в русской литературе он был и остаётся частью нашей жизни.
Михаил Коряков.
Примечание:
[1] Выступление на вечере памяти Сергея Есенина (1895-1925) в «Stemway Hall» в Нью-Йорке 22 декабря 1950 года – ред.
[2] Должен оговориться, однако, что я отнюдь не принадлежу к числу тех, которые порицают И.А. Бунина за его недавние, очень резкие, высказывания ο Есенине. Напротив, я нахожу, что в этих высказываниях И.А. Бунина, как и во всех его «Воспоминаниях», заложена глубокая правда. Но это — тема для большого особого разговора:, и не о Есенине, а вообще о России – авт.
[3] Потерянное поколение (фр. Génération perdue, англ. Lost Generation) — понятие, возникшее в период между Первой и Второй мировыми войнами.Термин приписывают американо-французской писательнице Гертруде Стайн (1874-1946) , которым она называла эмигрировавших за границу американских писателей, часто собиравшихся у неё в салоне. Термин впоследствии послужил определением для целой группы писателей послевоенного времени, выразивших в своих произведениях разочарование в современной цивилизации, пессимизм и утрату прежних идеалов. Также стали называть на Западе молодых фронтовиков, которые воевали между 1914 и 1918 годами, независимо от страны, за которую они сражались, и вернулись домой морально или физически искалеченными. Э. Хемингуэй использовал его в качестве эпиграфа к своему роману «И восходит солнце» – ред.
Печатается по: «Возрождение». (Париж). № 15. Май-июнь 1951 г. С. 96-105.
