Жизнь на войне
Первая мировая и гражданская война разделила Россию на советскую и зарубежную. В историографии период между двумя мировыми войнами получил наименование INTERBELLUM или, по-русски, МЕЖВОЙНА. Осмыслению русской национальной зарубежной мыслью процессов и событий, приведших к грандиозным военным столкновениям в истории человечества, их урокам и последствиям посвящен новый проект «Имперского архива» INTERBELLUM/МЕЖВОЙНА. Для свободной мысли нет железного занавеса, и дух дышит, где хочет.
АНДРЕЙ ХВАЛИН
+
ВОЙНА ЗИМОЙ
«В бою немцы не могли нас решительно одолеть, но они почти всегда имели успех в манёвре».
Война зимой… Но зимы в тот год мы почти не видали. Не помню совсем снега: если он и падал, то держался недолго. Климат южной Польши мягок вообще. Зима 1914-15 г. была особенно мягкой.
Зато бывали часто туманы. Мы любили эти дни: невозможность наблюдения делала и стрельбу невозможной. Начинал, впрочем, чувствоваться и недостаток снарядов. Штаб корпуса всякий раз не забывал напоминать нам об экономии. Каждая выпущенная бомба должна была быть как-то оправдана. При всех этих условиях боевая деятельность наша не могла стать особенно энергичной. Случалось, что по четыре, по пять дней кряду мы вовсе не выходили на позицию. Наступило длительное состояние полуотдыха. В этом состоянии мы прожили три зимних месяца…
Батарея наша стояла в расположении 14-го корпуса. Он занимал участок фронта, образовывавший почти прямой угол. Одна сторона угла смотрела на запад, другая – на север. Эта последняя сторона тянулась вдоль реки Пилицы, в некотором расстоянии от неё. Довольно большое местечко Иновлодзь стояло на самой реке. На противоположном берегу её возвышался большой каменный белый костёл. Наш берег спускался к реке полого, и на этом скате пехота занимала линии окопов, несколько впереди большого леса. На опушке его были расположены наши обычные наблюдательные пункты.
До сих пор отлично помню «пейзаж», открывавшийся с этого пункта. Были отлично видны дома Иновлодзи, в них гнездились немцы. Белел костёл, уже повреждённый артиллерийским огнём. Правее, на том берегу реки, шла линия деревянных дач. Левее Иновлодзи тянулась сплошная масса лесов. То были леса, окружавшие Спалу; царский охотничий замок, служивший теперь ставкой немецкого штаба расположенных против нас войск. Если не ошибаюсь, это была так называемая группа ген. Войерша, состоявшая из частей немецкого ландвера и ландштурма. Левее, против соседнего с нами участка 3-го Кавказского корпуса, стояли австрийцы.
Отход русских войск «на подготовленные позиции» после упорнейших лодзинских боёв не был условной фразой, скрывавшей какую-то неудачу. Мне кажется, напротив, что то была одна из полезнейших операций 1914 года. В самом деле, опыт показал, что наши войска дерутся хорошо (а что касается артиллерии, даже превосходно), но, в силу ряда причин, не могут маневрировать также точно, быстро и ловко, как маневрировали немцы, а иногда и австрийцы. После победы под Сольдау Гинденбург решил применить к нам систему коротких ударов, основанных на манёвренном преимуществе и на великолепной сети немецких железных дорог вдоль русской границы. Вслед за сентябрьско-октябрьским ударом на Иваногород – Варшаву он испробовал ноябрьский удар на Кутно – Лодзь. В бою немцы не могли нас решительно одолеть, но они почти всегда имели успех в манёвре.
Маневренное преимущество позволяло им действовать против нас с относительно небольшими силами[1]. Необходимо было, следовательно, лишить их этого преимущества и от маневренной войны перейти к позиционной. Как только наши войска отошли на позиции, подготовленные вдоль Бзуры, Равки, Пилицы и Ниды, немцы потеряли свободу действия. Мы зарылись в землю, и они должны были тоже зарыться в землю напротив нас. Войска, посланные ими против нас и снятые с западного фронта для нанесения нам коротких ударов, теперь нельзя было взять назад. Эти войска должны были занять определённые участки длинного фронта. Отход наших армий и переход их к позиционной войне оказался вернейшим способом удержать на нашем фронте значительные немецкие силы. Последствия сказались в 1915 году. Немцы вынуждены были искать решения на русском фронте, и русский фронт на весь 1915 год сделался главным фронтом. Союзные армии на западе получили благодаря этому столь необходимую для них передышку.
Всё это, разумеется, нам не было ясно в те времена, когда мы, бывало, пробирались тропой через лес, чтобы выйти на опушку его, открывавшую широкий вид на долину Пилицы. Лес тянулся полосой шириной версты в две. По нашу сторону его протекал ручей. Там, в лощине мы обыкновенно располагались на как бы самой природой устроенной позиции. От ручья назад местность вновь подымалась. Здесь на бугре, среди полей, раскинулась в длину очень большая деревня Демба, одна из тех бесчисленных Демб, которыми пестрят карты Польши. До западного конца её иногда ещё долетали неприятельские снаряды, но в противоположной части, где с удобством расположилась на стоянку батарея, заняв ряд дворов, текла мирная жизнь.
За три месяца, которые мы прожили в Дембе, мы устроились вполне основательно: вымыли и вычистили просторную избу, служившую офицерским жилищем. Солдаты ночевали в других избах или в сараях. На выгоне стояли парком, совсем по мирному времени, наши орудия в те дни, когда не было приказа выходить на позицию. Я помню, как особенно тихо прошло в этой обстановке Рождество. Стояли сырые, очень туманные дни. Фронт совершенно смолкал часами и даже днями. Жена моего товарища Г. приехала к нам из Москвы и привезла нам и солдатам подарки. Помню, с какой очень большой, внутренней воспитанностью наши орловские и воронежские ребята принимали эти знаки внимания к ним, эти не очень, может быть, и нужные вещи и не Бог весть какие сласти и угощения. Мы развлекали нашу гостью бесконечными чаепитиями.
Бедный Г.! Через несколько месяцев, оставаясь на фронте, он узнал, что сделался вдовцом…
Я помню Дембу и в иных обстоятельствах. Не раз занимали мы позиции в её окрестностях и стреляли то на запад, то на север. Не раз отправлялись мы на наблюдательный пункт через лес, избегая идти по большой дороге, сильно обстреливавшейся неприятелем. Мне и теперь чудится иногда запах этого зимнего леса, где протоптали мы свою тропку. В одно утро увидели мы на самом нашем следу огромную воронку шестидюймового снаряда.
У немцев снарядов было, видимо, много. Целый день постреливали они по лесу, где угадывали какое-то движение, по опушке его, в особенности, где угадывали они наши наблюдательные пункты. На наиболее обычном батарейном пункте мы соорудили маленький, но крепкий блиндажик, который оказался весьма кстати. Мне пришлось дважды испытать в этом блиндаже довольно сильное ощущение: один раз совсем над нашей головой разорвалась шрапнельная очередь, другой раз сто пятимиллиметровая бомба вырыла воронку рядом с нами.
С этого наблюдательного пункта мне, если можно так выразиться, «лично» пришлось послать немцам около полусотни бомб при следующих не совсем обычных обстоятельствах. Был, кажется, январь месяц. Затишье продолжалось. Мы с Г. нимало не страдали от нашего несколько ленивого, и однообразного, и мало боевого житья в деревне Демба. Большую часть дня мы проводили лёжа на кровати. Пили чай, играли в шахматы, читали мало и неохотно: книги напоминали о той жизни, о которой совсем не хотелось вспоминать…
Всё это плохо соответствовало беспокойному, рыцарскому и романтическому нраву нашего командира. Он скучал, нервничал, писал длинные письма, вздыхал, писал даже стихи. Ни лошади, ни разбитной денщик Полуляхов, ни батарейные псы, «Рыжий» и «Белый», не развлекали его. Однажды, наконец, он совсем загрустил: были какие-то письма из Москвы, от невесты. Мы остались вечером с ним вдвоём. «Пожалуйста не отговаривайте меня, — сказал он. — Я решил потихоньку съездить в Москву на несколько часов. Я больше не могу… Сегодня же вечером я доеду верхом до Опочно и там сяду в поезд. Это займёт всего три, четыре дня. Командуйте батареей, как будто бы я был болен. Ничего особенного не может случиться. Может быть, даже нас ни разу не вызовут за это время на позицию. Но, если и случится… Пожалуйста, не отговаривайте меня. Я знаю, что я делаю. Я больше не могу». Отлучиться без разрешения с фронта! Ответственность была велика. Но отговаривать командира я, разумеется, не стал. Я понял по его глазам, что он не послушался бы меня. Когда совсем стемнело, и деревня утихла, ему подали лошадь. Надёжный ординарец должен был проводить его до Опочно. Помню, как в темноте, светя карманным фонариком, мы вышли втроём на улицу. Сильно взволнованные мы обнялись, и спустя минуту наш романтический командир уже скакал куда-то, вверяя себя своей судьбе. Мы с Г. возвратились в избу, но долго не ложились, долго пили чай и долго говорили о нём.
Официально наш командир сказался больным, и командование батареей принял я. Истинное положение вещей было бы, однако, трудно скрывать, если бы оно продлилось более четырёх, пяти дней. К вечеру следующего дня батарея получила боевое задание. Нам предписывалось разрушить костёл в местечке Иновлодзь, служивший убежищем для немецких пулемётчиков, беспокоивших сверху наши окопы. Г. вывел батарею на позицию вместо меня, и я, вместо командира, отправился на наблюдательный пункт.
Я испытывал очень большое волнение: ради командира было так необходимо, чтобы всё сошло гладко. Привычные и надёжные люди телефонисты, разведчики своим спокойным и весёлым видом подействовали на меня успокоительно. Я особенно любил телефониста Трошина. Этот житель орловской слободы только, бывало, улыбался, когда приходилось послать его восстановить перебитый обстрелом телефонный провод. «Ишь опять!», — говорил он и уходил с бесстрашной ленцой туда, где рвались тяжёлые снаряды. То был первый солдат в батарее, заслуживший по всей справедливости Георгиевский крест.
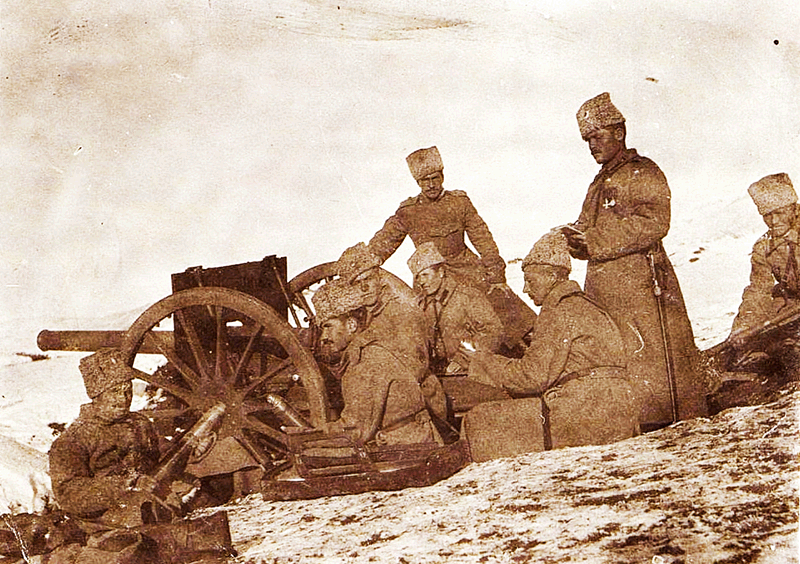
С первого же выстрела мы взяли направление очень верно. Скоро белый костёл оказался у нас, по артиллерийскому выражению, «в узкой вилке», то есть между близким недолётом и близким перелётом. В бинокль я видел очень явственно столбы земли, поднятой взрывами наших бомб. Разведчик Митрофанов, взобравшись на сосну, уверял, что видит в бинокль немецких солдат, разбегающихся от костёла. Я скомандовал поправку по уровню. Следующая очередь ударила в самый костёл. Половина боковой стены его рухнула. Вместо чёрных земляных столбов высоко взлетели вверх беловатые столбы мусора. Мы продолжали стрелять. Через короткое время от здания остались лишь странно торчащие руины. Несколько очередей, кстати, мы послали и в дома Иновлодзи. По телефону из штаба было передано приказание прекратить стрельбу и сообщить расход снарядов. Мне было особенно приятно, что полк, сидевший в окопах, просил передать «благодарность артиллеристам». Для пехоты на этом участке это было должно быть занимательнейшее зрелище, да и подымающее дух, ибо немецкой пехоте был дан здесь некоторый урок.
Мы возвратились в Дембу в отличнейшем расположении. Меня больше всего радовало, что всё обошлось вполне благополучно. Третий день прошёл тихо, а на четвертый, к вечеру уже можно было ждать командира. Но в это утро нас вновь потревожили. Теперь надо было прогнать немцев из деревянных дач к востоку от Иновлодзи. Когда я пришёл на наблюдательный пункт, было ещё раннее утро, стоял густой белый туман. Вдруг в этом тумане я ясно увидел четыре блеснувших огонька, через несколько секунд где-то за нами в лесу разорвались снаряды. Стреляла немецкая сто пятимиллиметровая батарея. Немецкие артиллеристы не сообразили, что в тумане будут видны вспышки их выстрелов. Немедленно я доложил в штаб, что вижу по вспышкам немецкую батарею и прошу разрешения её обстрелять. Тем временем я приказал разведчикам отметить вехой направление на огни выстрелов. Мне уже чудилось, как мы уничтожим немецкую легкую гаубичную батарею, как взорвём её зарядные ящики… Признаюсь, я до сих пор не могу без волнения вспомнить об этой минуте. Из штаба, однако, вылили на меня ушат холодной воды. Меня спросили, могу ли я ручаться, что я сделаю это с двенадцатью выстрелами. Двенадцать выстрелов, это было всё, что штаб мог прибавить к тем двадцати, которые были нам «ассигнованы» для выполнения сегодняшней задачи. По совести говоря, я ручаться не мог. Дистанция до немецкой батареи не была, разумеется, нам известна, и её надо было бы искать пристрелкой в тумане. Я рискнул бы дать утвердительный ответ, но боялся, как бы в результате всего этого не раскрылось каким-нибудь образом отсутствие командира. Пришлось ограничиться разгромом деревянных дач. Из пехотных окопов донеслось ура. Пехотных солдат забавляло смотреть, как летели вверх доски, балки и крыши. И вот наши тревоги окончились. Командир вернулся из Москвы к вечеру счастливый, бодрый и готовый теперь более терпеливо ждать артиллерийских подвигов. Помню, он сидел на постели, и Полуляхов классической денщицкой ухваткой стаскивал с него сапоги. Я рассказал ему про немецкую батарею. Лицо его омрачилось. «Напрасно, — сказал он, — напрасно подумали вы обо мне. Надо было не слушаться штаба и бить немцев, хотя бы для этого пришлось выпустить сорок бомб».
Наш участок франта был, по-видимому, одним из самых спокойных. Я не помню на нём за эти месяцы сколько-нибудь серьёзных дел. Стрелковая бригада, входившая в состав корпуса, скоро ушла куда-то в Карпаты. Оставшиеся пехотные дивизии были по своему составу, почти сплошь из запасных, мало пригодны к каким-либо «активным действиям». 14-й корпус принадлежал к частям весьма утомлённым боями, ибо дрался с самых первых дней войны, начиная от первого дела под Красником. Командиром корпуса был генерал Войшин-Мурдас-Жилинский. Мы его, впрочем, никогда не видели. Он жил в городке Опочно, верстах в восьми позади фронта.
В этот жалкий и унылый маленький городок я ездил иногда за покупками верхом, сопровождаемый моим ординарцем, бородатым воронежским мужиком, Хаустовым, трусившим за мной на маленькой белой лошадке.
Один раз, когда мы выезжали с ним из Опочно, Хаустов, забыв о дисциплине, тронул меня за рукав: «Глядите-ка, ваше благородие, что делается», — сказал он.
Я повернул к нему голову и увидел в некотором расстоянии на бугре кое-как сбитую, низкую виселицу. Женщина висела на ней. Кто подъезжал ближе, тот мог видеть надпись «шпионка». Но мы с Хаустовым не оказались в числе любопытных…
Иное воспоминание связано для меня ещё с городом Опочно. Там была небольшая православная церковь, выстроенная, очевидно, для стоявших здесь в мирное время войск. Проезжая однажды мимо, я увидел, что церковь отперта в неурочный час. Я слез с лошади и вошёл в дверь. Было уже поздно, почти темно. В церкви не было никого, кроме сторожа, да ещё одного молящегося, в военной шинели, стоявшего на коленях и припадавшего время от времени лбом к полу. Поражённый горестью этой жаркой молитвы, я тихонько вышел, сторож последовал за мной. От него я узнал, что молившийся одиноко в церкви человек, был генерал Эверт, командующий 4-й армией, наш командующий армией. Он потерял на войне двух сыновей…
Когда я бывал в Опочно, гудки паровозов заставляли меня вздрагивать, вспоминать, задумываться. Железная дорога! Москва, Россия… Но вот настал день, когда к станции Опочно подъехал я с тем, чтобы сесть в поезд и не вернуться более к батарее. Хаустов провожал меня. Я попрощался с ним за руку и обнял морду моего Миндаля, на котором ездил с первого и до последнего дня. Моя жизнь менялась, менялась служба… О ней я когда-нибудь расскажу особо и вспомню не без усилия те страшные дни, которыми она закончилась. В сравнении с этими днями, какими почти счастливыми временами кажутся мне эти полгода на фронте, эти недели походов и боев, эти месяцы батарейной жизни! Я имею право гордиться нашей батареей, «моей» батареей — 4-й батареей 5-ой тяжёлой артиллерийской бригады. До самого конца войны она не разложилась, но, придя походным порядком с фронта, сдала свои орудия в Вяземский арсенал.
Я имею право гордиться и моим благородным рыцарственным командиром. На долю его выпало немало смелых дел, немало тех подвигов, о которых он всегда так мечтал. И жизнь его окончилась, как было написано, должно быть, заранее в книге его судьбы. Уже на исходе войны, в начале весны 1917 года, он был смертельно ранен шрапнельной пулей на наблюдательном пункте, где-то на берегах реки Стрыпы. Да, может быть, судьба не обидела этим превосходного офицера, никогда не узнавшего, таким образом, ничего о той участи, жестокой или горькой, которая была уготована русскому воинскому сословию.
П. МУРАТОВ[2]
«Возрождение» (Париж). № 1702, 29 января 1930 г.
Примечания:
[1] Западные стратеги используют против русских войск на Украине германскую тактику Первой мировой войны.
[2] Муратов Павел Павлович (1881-1950) — русский писатель, искусствовед, переводчик, издатель. Родился в городе Бобров Воронежской губернии в семье военного врача. Воспитывался в кадетском корпусе, окончил Институт инженеров путей сообщения в Петербурге, в 1904-1905 годах был артиллерийским офицером. После путешествия за границу (1905-1906) поступил на службу в Румянцевский музей, где до 1914 года был хранителем отдела изящных искусств и классических древностей. С 1906 года печатался как критик в журналах «Весы», «Золотое руно» и др.
Участник Первой мировой войны, награждён орденами. Муратов не только участвовал в Первой мировой, но был и военным историком, автором трудов как о Первой мировой, так и о Второй мировой войне — «The Russian Campaign of 1941–1943» (1944), «The Russian Campaign of 1944-1945» (1946). Несколько лет назад была переведена его книга «Битвы за Кавказ…» («Caucasian Battlefields: A History of the Wars on the Turko-Caucasian Border. 1828-1921»), впервые изданная в Кембридже в 1953 году (после смерти Муратова). Соавтором всех этих трудов был Уильям Эдвард Дэвид Аллен.
В 1918-1922 годы работал в отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, вместе с И.Э. Грабарём участвовал в реставрации храмов Москвы и Новгорода. Был инициатором создания Музея искусства Востока.
В 1922 г. уехал из России в зарубежную командировку, из которой не вернулся; сначала жил в Германии, в 1923 г. поселился в Риме. В 1927 г. переехал в Париж, где стал одним из учредителей общества «Икона». Его политическую публицистику того периода в газете «Возрождение» высоко ценил И. Бунин. В 1928-м Муратов участвует в организации фундаментальной выставки русского искусства в Брюсселе. В 1928-1931 гг. публикует монографии по византийской живописи (по-итальянски и по-французски), готической скульптуре (по-французски) и др. В 1939-м переезжает в Англию, где помогает своему другу историку Уильяму Аллену подготовить монографию по истории Украины, вышедшую в свет в 1940-м. В 1940-1946 гг. живёт в Лондоне.
В 1944-1946 гг. Муратов пишет первые в истории книги о ходе войны на русско-германском фронте, вышедшие как сочинение двух авторов – Аллена и Муратова. В 1946 переезжает в Whitechurch House, имение Алленов в Ирландии. 5 октября 1950 г. Павел Павлович Муратов умирает от инфаркта в имении Whitechurch House. Похоронен на деревенском кладбище близ имения.
