Грозный и поляки
Первая мировая и гражданская война разделила Россию на советскую и зарубежную. В историографии период между двумя мировыми войнами получил наименование INTERBELLUM или, по-русски, МЕЖВОЙНА. Осмыслению русской национальной зарубежной мыслью процессов и событий, приведших к грандиозным военным столкновениям в истории человечества, их урокам и последствиям посвящен новый проект «Имперского архива» INTERBELLUM /МЕЖВОЙНА. Для свободной мысли нет железного занавеса, и дух дышит, где хочет.
АНДРЕЙ ХВАЛИН
+
ПОЛЬСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОЗНОГО
«Авось, скоро придёт то время, когда и полякам о русских, и русским о поляках можно будет писать уже вполне объективно…»
Д-р Вацлав Ледницкий[1], молодой профессор Краковского университета, а перед тем приват-доцент Виленского и Брюссельского, принадлежит к числу поляков московского урождения, образования и воспитания. Он сын известного московского присяжного поверенного, члена Государственной Думы, Александра Робертовича Ледницкого[2]. А научно рождён московским университетом. Типическая печать московской almae matris (лат. мать-кормилица, в данном случае университет, где получил образование – А.Х.) ярко заметна на трудах молодого учёного, посвященных истории русской литературы: «Иван Грозный, апологет абсолютизма», «Александр Пушкин» и обширное предисловие, целая диссертация, к «Евгению Онегину» в прекрасном польском переводе Лео Бельмонта. Работы В. Ледницкого очень приятное польско-русское явление. Помимо несомненной талантливости и литературного мастерства автора, они свидетельствуют также о превосходном изучении им русских источников по предметам задания и о большом искусстве критической компиляции.
Книжка об Иване Грозном выросла из пробной лекции В. Ледницкого в Виленском университете. Профессор видит в царе Иване чрезвычайно талантливого государя и писателя, но вовсе не такого единично-оригинального и самобытно-внезапного человека, каким рисовался он воображению большинства русских историков и поэтов. Впечатление мнимой не обыкновенности Грозного рождается из ошибочной привычки рассматривать в нём бытовую фигуру XVI-го столетия, прилагая к ней сравнительную оценку по европейской мерке того же века. А это несправедливо.
Политическую, философскую, богословскую, художественную, обще социальную мысль Европы, современной царю Ивану, определило Возрождение. Оно тогда уже свершило свой круг, и на Западе эпоха его кончалась, тогда как в Московии ещё и не начиналась. Отрезанная католическою Польшею от Европы, не соприкоснувшись с Возрождением, Московия отстало застряла в средневековье. Царь Иван был тоже пережиточным и очень запоздалым средневековым государем и мыслителем. Единомыслия с ним на Западе надо искать в идеях не современников его, но в XII-XIII веках, у Фомы Аквината, Бернарда Клервосского, Уго Флерийского[3].
В Иване, до известной степени, конечно, и очень на русский лад, ожил император Генрих IV, но с гораздо большей удачей, без Каноссы[4]. Он был ярким представителем «цезарецентризма» против «цезарепапизма». Ему хорошо была знакома теория «двух мечей», вручённых Богом для обладания миром: духовного – Церкви, светского – императору. Но теория эта, проповеданная Болонскою школою со времён Фридриха Барбароссы[5], получила в Москве, благодаря её оторванности от католичества и византийскому правопреемству, эволюцию, обратную западной. На Западе верх остался за Церковью, в лице папы, в Московии – за государством, в лице царя. Иван Грозный, в этом отношении, прямой предшественник Петра Великого, открыто подчинившего Церковь государству. Пользуясь перепискою Грозного с кн. Курбским, и обличительным письмом к старцам Кирилло-Белозерского монастыря, В. Ледницкий тщательно выясняет тенденцию устранения Церкви от участия в государственном правлении, хронически владевшую помыслами царя Ивана. С ловкостью умелого публициста, он в этом предмете черпал доводы в свою пользу одинаково от обоих, казалось бы, непримиримых полемистов, Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. От первого Иван заимствовал положительное оправдание своей светско-властной линии, проводимой, хотя параллельно церковной, но поверх её, в чём его учителями были публицисты — богословы предшествовавшего века (митрополит Киприан, Пахомий Сербин, старец Филофей и др.), а современным единомышленником – Ивашка Пересветов. Аскетическое же учение Нила Сорского и Вассиана Патрикеева служило Ивану для выявления Церкви царством не от мира сего, в доказательство, следовательно, невозможности быть ей общницей в делах сего мира. Когда Грозный рисует свой идеал инока, он, по остроумному замечанию В. Ледницкого, как бы предсказывает будущее толстовское «непротивление злу».
Как «самодержец» и «царь», Иван не новатор, а последователь и продолжатель. Свое самодержавие он выражал тою же формулою, что удельные князья-вотчинники: «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити ж вольны есмя». Последним князем-вотчинником является и сам Иван, отличаясь от прежних только размерами своего «удела», каковым сделалась вся, собранная его предками, Русь. Политическая трагедия Ивана Грозного из того и истекла, что громадные размеры и сложный этнический состав его государства предъявляли к нему требования имперского строительства, что он очень хорошо понимал и к чему порывался, но крепко засевший в нём князь-вотчинник помешал ему опередить Петра Великого.
В связи с имперской неудачею Грозного, В. Ледницкий подробно рассматривает его борьбу с польским правительством за царский титул. Он не был новшеством ни в Москве, ни глубже в веках. Иван Грозный не без основания относил появление титула «царь» к эпохе Владимира Мономаха. Но Ивану Грозному принадлежит честь того результата, что титул потерял своё азиатское значение хана крупной самостоятельной орды и получил или, вернее, возвратил себе европейский смысл «цезаря», которого он является «евразийским» сокращением. Стефан Баторий, отказывая Ивану в царском титуле, то и старался доказать, что ты де ломишься в Европу с азиатским нововведением: «ни который государь в христианстве тем именем не называется, кромь бусурманских царей; а он, брат наш, есть государем христианским».
В этом, казалось бы, маловажном споре о словах враги упорствовали не напрасно – они очень хорошо понимали друг друга. Речи Посполитой, стоявшей в папском реестре европейских государств на четырнадцатом месте, конечно, очень неприятно и невыгодно было признать «царем», т.е. «цезарем», равностепенным династам Священной Римской Империи, беспокойного соседа, одержимого византийской идеей быть «государем всех христиан от востока и до запада и до океана» (коронационная формула Грозного).
Доводы Ивана в споре были наивны, голословны, фантастичны, непоследовательны. Он валил в кучу всё, что казалось ему к выгоде, не разбираясь в противоречиях. Но, по существу-то, он был совершенно прав. В. Ледницкий показывает, что понимание и определение Иваном своей «царской» власти, как «цезарской», т.е. императорской, были вполне согласны с детерминацией «империи» в нынешнем международном праве (Блюнчли, Прадье-Фодере)[6] по признакам территориальной обширности и разнородности этнического состава. Английские и итальянские гости тогдашней России, видевшие собственными глазами то «православное истинное христианское самодержавство, многими владычествами владеющее», которым похвалялся Иван, величают его, без околичностей, «императором». Как «императору», писала ему королева Елизавета Английская.
В числе наивных доказательств Иваном своих прав на царский титул В. Ледницкий насмешливо отмечает веру Грозного в своё фантастическое родословие от некоего небывалого Пруса, якобы двоюродного брата римского Августа Цезаря и прямого Рюрикова предка. Сказка, действительно, нелепая, но ведь Грозный не сам её сочинил. Ещё в XVIII веке Бойер, Миллер, Шлёцер и Татищев[7], а в XIX-м Куник[8] и Первольц признали её польское происхождение. Татищев даже указывает, как и кто привил её Москве: «перво Глинский, слыша оныя басни в Литве, привнёс, Герберштейн утвердил, а Макарий митрополит, или мало прежде его некто, прельстяся польскими баснями, первой в свою летопись, без всякого от древних доказательства, за истину приняв, положил».
Если даже принять, как Гедеонов, Жданов, Иловайский, что вышеназванные историки преувеличили степень польского влияния на формацию легенды, то нельзя отрицать того, что она является сколком с такой же литовской легенды о происхождении Ягеллонов от римского выходца Полемона. Манкиев в «Ядре русской истории»[9] смело объединил обе легенды: и Прус де, и Полемон вместе пришли. Так что, если царь Иван смешно бредил каким-то римским предком, то бред этот он унаследовал от своих литовских, через мать, Елену Глинскую, дедов.
В качестве царя-цезаря Иван в своей внутренней политике проводил программу «грозного» демократического абсолютизма. Памятник её – Ивашки Пересветова «Сказание о Петре, вольшском воеводе»[10]; полемический противовес ей – «Беседа Валаамских чудотворцев» и писания кн. А.М. Курбского, отражающие в себе помыслы аристократического конституционализма. В письмах ли своих, в уставных ли грамотах, даже в практике своего террора, Грозный всегда проводит твёрдую линию равенства всех своих подданных перед царским престолом, без уважения к каким-либо прерогативам и привилегиям. (Отсюда родилась эпическая популярность Ивана как грозного, т.е. неуклонно справедливого, царя народного, царя мужицкого; в иных сказках он является даже богоизбранным царём из мужиков). Может быть, именно поэтому и запомнился так остро именно его террор, хотя, как справедливо указывает В. Ледницкий, вслед проф. Кизеветтеру[11], он вовсе не был «историческим экспромтом» Грозного: не Иван его выдумал и ввел, бывали и раньше времена, когда вся дорога от Москвы до Новгорода уставлялась, как верстовыми столбами, виселицами с качавшимися на них трупами крамольников.
Поравняв свой народ в ответственности перед собою, царём, Иван, сообразно тому, и себя почитал ответственным пред Богом за весь свой народ. «Верую, — писал он Курбскому, — что я подлежу Суду за все грехи, совершённые ведением и неведением, и не только за свои, но и за грехи подданных моих отвечать я должен, если они через несмотрение согрешают». Ибо он – опекун православного христианства, каким был раньше, до падения Константинополя, византийский император. «Дана мне держава от прародителей наших, да познают люди единого истинного Бога, в Троице славимого, и от Бога данного им Государя».
Отсюда два последствия. Первое для Грозного: «противляйся власти Богу противится», — значит, делается богоотступником, бесовым слугою, как Курбский, сбежавший от Ивана в Литву. Второе: глубочайшее презрение Грозного к верховной власти выборной и ограниченной конституционно. Даже Елизавету Английскую он, хотя был великим англоманом, строго отчитал однажды за недостаточную самодержавность. Шведского короля почитал – вроде как бы сельским старостой на сходе и отказывался иметь личные переговоры с его послами. Из польских королей признавал «братьями» Ягеллонов, но упорно отказывал в братском приветствии Стефану Баторию, с иронией вопрошая: «А если бы они (поляки) себе Яна Костку в короли взяли, что же, он тоже братом мне был бы?». Когда Ивану напомнили, что, вот, однако, был же выборным государем царь Давид, он очень ловко вывернулся, возразив:
— Давида выбрал Бог, а не люди. А что касается этого (Батория) тут ваша воля: хотя бы мятежом человеческим и худшего выбрали, всё он для вас государем будет.
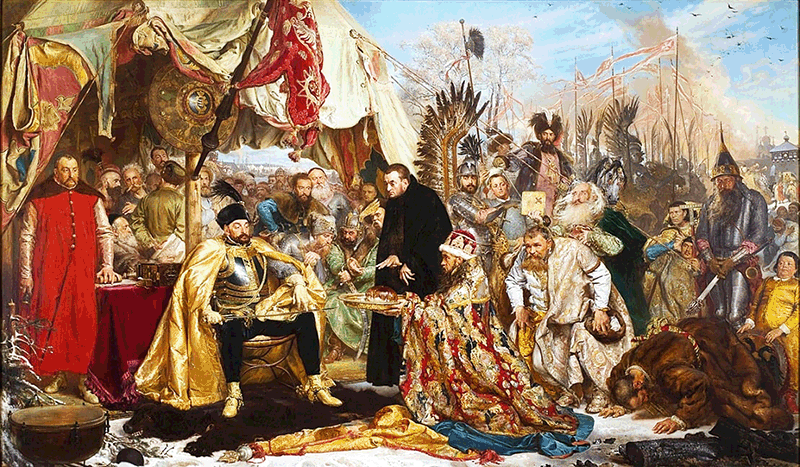
При подобных убеждениях, конечно, нисколько не последовательно было со стороны Ивана самому добиваться избрания на польский престол. В. Ледницкий объясняет эту непоследовательность общею де чертою русского характера: «Заоблачный полёт отвлечённой мысли и порхание её под небосводом высоких идей, чисто теоретичных, рассуждения о принципиальных проблемах – всё это отступает на задний план, как скоро дело доходит до практической цели. Мечтательный идеалист становится цепким арривистом (в данном случае «человек дела»; от фр. arriver — сделать карьеру – А.Х.), который превосходно блюдёт свои интересы и без зазрения совести пробивает себе дорогу».
Эту неудачную тираду, вместе с ещё несколькими (очень не многими) строками работы В. Ледницкого, несогласными с общим объективным тоном его работы, я считаю маленькой взяткою, которою молодой профессор, читая пред аудиторией, не очень-то расположенной к русским, откупился от возможных подозрений и покоров в «москалефильстве». Искренним предположить его суждение я не могу потому, что в своих работах о Пушкине В. Ледницкий с большою любовью исследует эпоху и судьбы людей, уже никак не оправдывавших его жесткого обобщения. «Практический арривизм» Пушкина, Веневитинова, Рылеева, Баратынского, Лермонтова!? Онегина, Ленского, Печорина, Обломова, Рудина, «лишних людей»?!.. Убил бобра своим обобщением польский критик русского характера! Не практическим арривизмом грешны мы, многогрешные, а, напротив, при великой способности к рассуждению, малою способностью к действенности, тою самою improductivité slave (с фр. буквально славянская непродуктивность – А.Х.), за которую Сенкевич корил и вас, поляков.
Имперская идея оказалась не по плечу Ивану Грозному, последнему князю-вотчиннику русского средневековья. В досаде на свой внутренний разлад с нею, он, как известно, однажды поворотил было самого себя в удельные князья и, не хуже Курбского, «отъехал» от собственного царения на Москве в Александровскую слободу, сделав её столицею своей опричнины, а земщине посадив на Москве фиктивного государя. Царём Иваном кончилась династия Рюриковичей, как политическая активность. Но он передал в наследство новой династии Романовых задачу «кафолического империализма», вместе с его идейным обоснованием. Иван Грозный один из творцов и вдохновителей русского мессианизма – вечного спасительства мира народом-богоносцем Ф.М. Достоевского.
Светопреставление, назначенное на 25 марта 1492 года, в наказание миру за Флорентийскую унию, Бог отменил из милости к Москве, которая унии не приняла и осталась верною православию. Поэтому Он отдал прегрешившую Византию туркам, а историческую роль её, как хранительницы православия, перенёс на Москву. «Два убо Рима подоша, а третий стоит, а четвёртому не быть». Своим православием Русь спасает вселенную от погибели. Империализм Москвы движется под знаменем восьмиконечного креста и стремится к расширению своей державы «от востока до запада и океана» с искупительною целью, «да познают люди истинного Бога, во святой Троице славимого».
Цели плохо соответствовали хищные средства её осуществления, и Пётр Великий оставил её на задний план, выставив на первый империализм задач чисто политических, достигший своего высшего развития в царствование Екатерины II. Но и в этом новом направлении царь Иван имел прямого преемника, даже более схожего с ним, чем Пётр Великий, – в лице Николая I, с его романтическою верою в мощь легитимизма, с его «как бы имманентною самодержавностью», с его ненавистью и страхом ко всем конституционным наследиям Французской революции. Это опять типический русский империалист-«спасатель» мира.
В русском обществе идея спасательства чистой христианской веры переродилась в идею спасения Россией христианской, т.е. европейской, цивилизации от «жёлтой опасности», от «монгольской навалы», как выражается В. Ледницкий. Обоснование этому учению дал «гениальный певец российского империализма Пушкин», позже Вл. Соловьев, в наши дни А. Блок. «Однако, оно, от первого начала русского империализма, было ему, безусловно, противоборным и никогда не сделалось его истинным содержанием. Силою своих возможностей внушал он миру мнение, будто именно таково было его существо, заставлял верить, будто ему удалось объединиться с этою идеей и присвоить её себе. Но, ослабленная внутренним антагонизмом и органическою непоследовательностью своего парадоксального строя, громада русской империи пала. В её революционном крушении замкнулись для России те гордые и поистине безграничные перспективы, которые предвидел своим хищным оком царь Иван Васильевич Грозный, всегда убеждённый, как всякий русский (?!), что он обладает непременным жребием господствовать над миром и способен, хотя сам не достиг внутреннего равновесия и гармонии, мир этот преобразовывать и организовывать».
После этой, опять «взяточной» тирады, которую я привожу в умягчённом сокращении, В. Ледницкий, в заключение книжки, обращается к своим соотечественникам с кратким увещанием не прельщаться путём империализма, столь гибельным, как показывает горестный пример России, и оставаться всегда верными традициям польской истории: она, будто бы, никогда не знала «бреда величия» и скачков через ступеньку по лестнице истории… Увещание, конечно, резонное и полезное, но патриотический комплимент В. Ледницкого едва ли согласились бы принять король Сигизмунд III и польские организаторы русского Смутного времени, наступившего так быстро по смерти Ивана Грозного, с рядом польско-русских войн, вдохновлённых как раз «бредом величия» тогдашних польских державцев и магнатов. Слишком смело также отрицать наличность скачков в истории Речи Посполитой, которая, напротив, всегда шла зигзагами взлётов и упадков и о которой сама мудрость польского народа решила, что «Польска непожондкем стое» (с польск. «Польша стоит неприступной» — А.Х.).
О царе Иване трудно сказать много нового после Ключевского, Платонова, Кизеветтера, Дьяконова, Михайловского, Виппера (российские историки XIX в. – А.Х.) и др. В. Ледницкий изучил всех их со тщанием и часто поминает. И, однако, ему удалось быть частью оригинальным, частью удачно освежить старое. Заметное влияние имела на него также «История политических учений» Б.Н. Чичерина[12], которою он усердно пользуется для выяснения средневековой идеологии царя Ивана. В общем, В. Ледницкий – историк и критик яркий, ясный и прямой. Книжка его может быть прочитана каждым русским с интересом, удовольствием и пользою, за исключением нескольких неудачных публицистических отступлений вроде вышеприведённых – шаблонно тусклых, ибо насильственных. Однако, и в них у В. Ледницкого не слышно того «злопыхательства», каким, напр., почитал за необходимость портить междустрочно свои прекрасные русские исследования В. Спасович[13], оправдываясь тем пред поляками-патриотами за избранный не патриотический предмет. «Взяточки» В. Ледницкий «шовинистам» даёт, но не «выслуживается». Авось, скоро придёт то время, когда и полякам о русских, и русским о поляках можно будет писать уже вполне объективно, без нужды в, хотя бы и малых, «взяточках».
Александр Амфитеатров
«Возрождение» (Париж). № 796, 7 августа 1927 г.
Примечания:
[1] Ледницкий Вацлав Александрович (1891-1967) — историк литературы, профессор Ягеллонского университета; в 1940 г. эмигрировал в США, где преподавал в университетах Чикаго и Беркли.
[2] Ледницкий Александр Робертович (1866-1934) — российский и польский общественный и политический деятель, адвокат и филантроп, журналист и финансист, депутат Государственной думы Российской империи I созыва, сторонник идеи польско-русского сближения.
[3] Фома Аквинский (около 1225-1274) — итальянский философ и теолог, канонизирован католической церковью как святой, систематизатор ортодоксальной схоластики, учитель Церкви, признан наиболее авторитетным католическим религиозным философом, который связал христианское вероучение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Бернард Клервоский (1091-1153) — французский средневековый богослов, мистик, общественный деятель, цистерцианский монах, Почитается Католической церковью как святой и Учитель Церкви. Гугон из Флёри (ум. после апреля 1122) — французский хронист и церковный писатель, монах-бенедиктинец из аббатства Флёри, автор богословских, агиографических и исторических сочинений.
[4] Хождение в Каноссу — датированный 1077 годом эпизод из истории средневековой Европы, связанный с борьбой римских пап с императорами Священной Римской империи. Эпизод ознаменовал победу папы Григория VII над императором Генрихом IV.
[5] Фридрих I Гогенштауфен (конец 1122-1190) — король Германии с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года. Прозвище Барбаросса он получил в Италии из-за своей рыжеватой бороды (от итал. barba, «борода», и rossa, «рыжая»).
[6] Иоанн Каспар Блюнчли (1808-1881) — швейцарский юрист, политик. Имя его получило широкую популярность в Германии, в 1861 г. на съезде юристов в Дрездене он был избран председателем. Его идеи по международному праву сделались авторитетными. По его предложению создался т.н. Институт международного права, впервые собравшийся под его председательством в Генте в 1873 году. Поль Прадье-Фодере (1827-1904) — французский юрист, адвокат, педагог, публицист и научный писатель. С 1879 года был сотрудником Института международного права и написал, работая на этой должности, множество работ в области административного, конституционного и международного права.
[7] Готлиб Зигфрид Байер (1694-1738) — немецкий историк, филолог, один из первых академиков Петербургской академии наук и исследователь русских древностей. Зачинатель истории как науки в России. Герхард Фридрих Миллер (Мюллер) (1705-1783) — русско-немецкий историограф, естествоиспытатель и путешественник. Действительный член Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, руководитель Академического отряда «Второй Камчатской экспедиции», организатор Московского главного архива. Август Людвиг Шлёцер (1735-1809) — немецкий историк, публицист и статистик, в 1761-1767 гг. состоявший на русской службе в Санкт-Петербурге. Один из авторов так называемой «норманской теории» возникновения русской государственности. Василий Никитич Татищев (1686-1750) — российский инженер-артиллерист, историк, географ, экономист и государственный деятель; автор первого капитального труда по русской истории — «Истории Российской». Один из основоположников русского источниковедения.
[8] Арист Аристович Куник (1814-1899) — российский историк. Окончил Берлинский университет и в 1839 приехал в Москву, где занялся изучением русской истории. Куник даёт варяжскому вопросу иную постановку: по его мнению, важно не столько определение имени и национальности основателей русского государства, сколько определение того, какие новые начала были внесены ими в русскую жизнь.
[9] «Ядро русской истории» (1715) Алексея Манкиева продолжило развитие версии «Мешех/Мосох» в отечественной историографии о происхождении московитов и великого славяно-российского народа. Согласно этой концепции, прародители Словен и Рус произошли из «чресла Ирода» и были потомками Иафета и его сына, а князь Мешех – правитель Московии. Манкиев утверждал, что Мешех/Мосох был патриархом и прародителем московитского, руского, польского, волынского, чешского, мазовецкого, болгарского, сербского, хорватского и других народов, которые говорили на одном общем славянском языке. Он настаивал на том, что Библия является основным источником изучения этногенеза славян, и крайне критически относился к другим теориям, в которых в качестве предков использовались ложные боги, животные или «вымышленные» личности. Кроме того, он русифицировал теорию, назвав Мешеха/Мосоха по имени и отчеству: «Мосох Яфетович». Работа Манкиева, однако, не привела к популяризации концепции Мосоха в Московии/России. Написанное в шведском плену «Ядро российской истории» не было опубликовано до 1770-х годов и вскоре было вытеснено новой светской историографией.
[10] Иван Семёнович Пересветов (сер.-втор. пол. XVI века; точные годы жизни неизвестны) — русский политический философ, публицист, светский писатель; один из самых ярких представителей русской общественно-политической мысли середины XVI века. Автор самостоятельной концепции о «вере и правде», идеолог дворянства; известен сочинениями против старой наследственной аристократии (бояр). В конце 1549 года Пересветов передал свои сочинения («две книжки») русскому царю Ивану IV Грозному, написанных от имени «Петра, молдавского воеводы». Его программа государственных реформ совпадала в значительной степени с политикой Избранной рады. Был сторонником завоевания Казанского ханства. Отмечал симпатии к России порабощенных турками славянских народов.
[11] Александр Александрович Кизеветтер (1866-1933) — русский историк, публицист, политический деятель. Председатель Русского Исторического Общества в 1932-1933 годах.
[12] Борис Николаевич Чичерин (1828-1904) — русский правовед, один из основоположников конституционного права России, философ, историк, публицист и педагог. Почётный член Петербургской Академии наук (1893). Почётный член Московского университета (1900). Считается основателем российской политологии — науки об управлении государством и политическими процессами. Политология, по мнению учёного, зиждется на изучении исторического опыта, общества, истории философии и правовых основ государства.
[13] Владимир Данилович Спасович (1829-1906) — русский юрист-правовед, выдающийся адвокат, польский публицист, критик и историк польской литературы, общественный деятель. Исследовал проблемы истории и культуры западно-европейских и славянских стран. Автор исторических и юридических исследований, посвятил ряд статей творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, В.С. Соловьева, В. Шекспира, Д. Байрона, А. Мицкевича.
